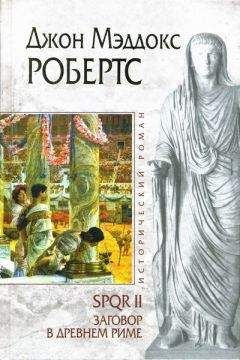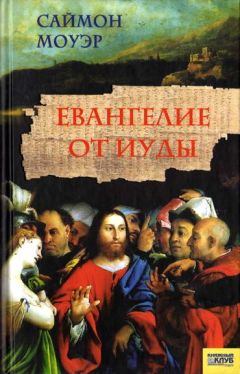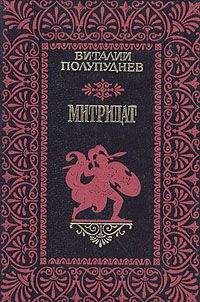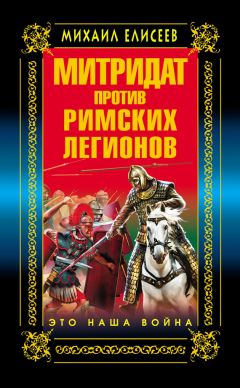Саймон Моуэр - Евангелие от Иуды
«Отец наш, если Ты есть, сущий на небесах, если есть небеса, да восславится имя Твое, если у Тебя есть имя…»
Лео бежал с тонущего корабля молитвы и искал успокоения в других местах – в воспоминаниях о Мэделин Брюэр. Лишившись духовного спокойствия, он искал спокойствия метриального, тленного забвения плоти.
Гольдштауб приехал рано утром, еще затемно, пока воздух не успел прогреться.
– Ты выглядишь так, как будто с постели тебя подняли вилами, – заметил он. – Что, матрас оказался слишком жестким? Я думал, ваш брат это любит – ну, умерщвление плоти и все такое…
– Сейчас уже никакой плоти не осталось, – с кривой усмешкой ответил Лео. – Сейчас умерщвляют разум.
Они ехали по темным, тихим улицам, где могли бы беспрепятственно разгуливать призраки. Стены Старого города казались тенями на светлеющем фоне небес, Гибралтарский купол тускнел и становился похожим на обычный свинцовый набалдашник. Они съехали в долину Кидрон; фары «лэндровера» разрезали тьму мертвенно-белым светом, словно две наточенных косы. Лео чувствовал странное отчуждение, как будто в нормальную жизнь вставили эпизод абсурдного сна, и стоит ему проснуться – серый, бесцветный she'olисчезнет. Он проснется. Умоется, оденется и позавтракает. Он отправится в Папский институт, посетит мессу в часовне, прочтет утреннюю лекцию о развитии новозаветного канона и продолжит работу над грядущей публикацией очередного фрагмента папирусов Эн-Мор. Жизнь продолжит движение по той колее, в которую она вошла много лет назад, когда он еще учился в семинарии и учителя заметили в нем упрямое прилежание в мелких лингвистических вопросах, одержимость новозаветным греческим языком и робкий страх перед бесцеремонностью всяких нововведений.
Лео снова подумал о Мэделин, и мысль эта отозвалась в нем легкой конвульсией. Эмоция выразила себя через тревожный, неестественный физический симптом.
– Ты не заснул? – спросил Гольдштауб.
– Нет.
– Замечтался? О чем же, интересно, мечтают священники?
– Я думал о Мэделин.
– О ней?
Зачем он упомянул ее имя? Она улыбнулась ему из глубин памяти. Мэделин, способная даровать утешение доброй души, утешение любви к ближнему взамен ужаса бездны.
– О том, как все это отразится на людях вроде нее.
– Если свиток подлинный, – напомнил ему Гольдштауб. – Ты же сказал, что это подделка.
Они проехали под безмолвным, громоздким танком, выполнявшим функцию мемориала Шестидневной войны, [65]и миновали оливковые деревья – то место, куда под покровом ночи, во власти мрака, Иуда привел отряд римских солдат, дабы те арестовали человека по имени Иисус. И Лео извлек слова из самых потайных глубин своего естества, будто бы расщепив ядро неверия, которое всегда гнездилось в нем: в детстве, в течение долгих лет обучения, в течение долгих лет следования своему призванию.
– Он подлинный, – сказал Ньюман. – В глубине души я боюсь, что он подлинный.
Гольдштауб кивнул.
– Так я и думал, – ответил он. – Я сразу это понял. Когда ты впервые его увидел, ты напоминал человека, который вошел в больницу с простуженным горлом, а вышел с лимфомой.
Дальше ехали молча. Дорога огибала Оливковую гору под деревушкой Эль-Азарий, родной деревушкой Лазаря, где Иисуса помазали перед триумфальным входом в город. Здесь кончалась Вифания, и дорога вилась вниз, мимо гостиницы Доброго самаритянина (там предлагали купить освежающие напитки, закуски и иконки, а также сфотографироваться с верблюдом), вглубь потрохов планеты, вглубь сероватых, серебристых и пунцовых красок рассвета, где Мертвое море, Соленое море, простерлось кованым оловом под высоким заслоном облаков. На другом берегу высились холмы Моаб, казавшиеся двухмерными против света; там стоял Моисей и взирал на Землю Обетованную, достичь которой ему было не суждено. Над холмами рассвет сочился кровью и лимфой, точно потревоженная рана.
Из земли долины торчал указатель, гласивший: «Иерихон, древнейший город в мире», – но слева, куда была устремлена стрелка, не было ровным счетом ничего. Гольдштауб повернул «лэндровер» направо, объезжая отвесный склон с руинами Кумрана и утесы, где были обнаружены свитки Мертвого моря. Ветхий, изъеденный солью знак указывал направление к Эн-Геди и Масаде. Машина ехала между угрюмым морем и сыпучим каменистым оплотом, что представлял собой переплетение хребтов и вымоин, олицетворение дикой природы Иудеи; это место принадлежало ящерицам, шакалам и пророкам, в этом месте человек по имени Иисус провел сорок дней и сорок ночей, охваченный ужасом одиночества. И как раз когда они там проезжали, утренний свет внезапно дрогнул, двадцатый век беззастенчиво вторгся в недвижное безвременье пейзажа и внезапный звук заглушил вой автомобильной трансмиссии: два реактивных истребителя промчали над долиной, оставляя за собой лишь рев моторов, словно симметричные фалды… Самолеты чуть накренились, пролетая мимо них, устремляясь к израильской границе, ведь пилоты наверняка осознавали, что находятся под бдительным наблюдением иорданских радаров. На фюзеляжах можно было разглядеть звезды Давида. Лео одолевали апокалиптические мысли. «Кто удостоится чести прочесть свиток?» – думал он, а самолеты тем временем превратились в крохотные точки на сверкающей пленке утреннего неба.
– Недалеко осталось, – сказал Гольдштауб. Чахлый, выжженный пейзаж, место обнаружения свитков, дажецветом своим схожее с папирусом: коричневато-желтое, высохшее место. Они миновали небольшой оазис Эн-Геди, где Давид [66]прятался от Саула [67]и отрезал прядь волос с головы завистливого царя, и через пятнадцать минут уже были в Масаде. На несколько обманчивых секунд мрачная плосковерхая гора – где Ирод возвел дворец удовольствий, где Мариам, его царица, когда-то выходила на террасу насладиться видом, где последние зелоты [68]держали оборону против римских легионов и, наконец, предпочли массовое самоубийство капитуляции – обрела изысканную красоту в кораллово-розовых лучах рассвета. Слева находился Лизан, Язык, соляные равнины, где воды Иордана наконец испаряются в томящий пустынный воздух. Всю остальную площадь занимал соляной пустырь, где некогда стояли города Содом и Гоморра.
Десять минут спустя Гольдштауб остановил свой «лэндровер».
– Вот мы и приехали.
Дорога вела направо. У блокпоста скучали двое солдат. Согласно знаку, это место называлось Эн-Мор, а приписка гласила, что оно охраняется Комитетом по защите древностей. Грубый хребет рассекал плато, словно окостенелый палец иудейской природы.
– Ты бывал здесь раньше? – спросил Гольдштауб. Лео выглянул в окно, изогнувшись, чтобы рассмотреть склон и дно вымоины.
– Да.
Солдаты перекинулись парой слов с Гольдштаубом, после чего подняли шлагбаум. Машина свернула на обочину, и Гольдштауб переключился на первую передачу, поскольку им предстоял долгий, медленный подъем от уровня моря по склону хребта, что, извиваясь змеей, вел к Масаде через нагромождения опаснейших камней. Вслед за ними тянулся шлейф желтой пыли. Пыль покрыла окна, панель управления, руки и губы. «Ибо прах ты и в прах возвратишься», [69]– подумал Лео. Кто же пришел сюда, в этот опорный пункт истории? Кто же прошел сей тернистый путь с мешком свитков на спине?
Наконец горизонт оказался на уровне груди пассажиров, и машина достигла вершины узкого утеса. Они прибыли в археологический лагерь. На прогалине стоял армейский внедорожник и еще несколько «лэндроверов». Сзади тянулся ряд палаток, возвышался огромный шатер с подвернутыми краями. Группа волонтеров уже сновала туда-сюда среди рытвин: молодежь в футболках и шортах, грудастые девочки с загорелой кожей, мальчики с растрепанными волосами и жиденькими бороденками. Там царила атмосфера летнего лагеря. Кто-то полоскал в ведре глиняные черепки, а затем раскладывал их по деревянным коробкам, ранее служившим для хранения апельсинов. По радио звучали новости на иврите. Поодаль генератор колыхал утренний воздух. Непосредственно раскопки проводились чуть в стороне: несколько линий разрушенных стен в пыли, пониже лагеря, с вехами, разложенными решеткой.
Когда Лео выбрался из автомобиля, к нему подошел директор. Он носил одно из угрюмых односложных еврейских имен – Дов. Дов Агрон. Глаза его загорелись, когда Гольдштауб представил Лео.
– ОтецНьюман, верно?
– Можно просто Лео.
Рукопожатие Агрона было сухим и крепким. В речи его смешались акценты еврея, американца и выходца из Центральной Европы.