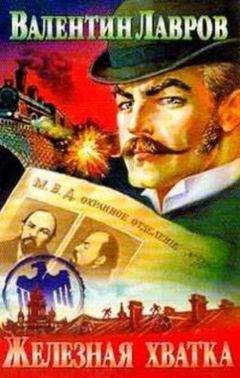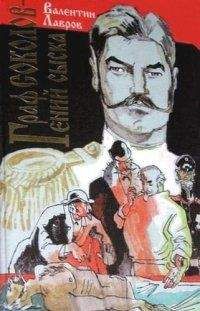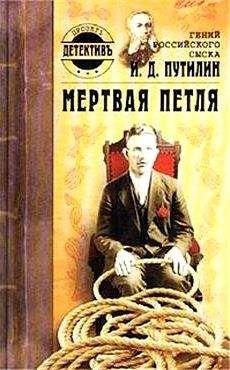Роберт Харрис - Помпеи
Свиное вымя, фаршированное почками, и рядом с ним, на отдельном блюде — свиная вульва; она словно усмехалась беззубым ртом, потешаясь на добедающими. Жареный дикий кабан, нафаршированный живыми дроздами. Как только брюхо вспороли, перепуганные птицы рванулись в разные стороны, гадя на лету. (Завидев это, Амплиат заржал и захлопал в ладоши.) Затем настала очередь деликатесов. Языки аистов и фламинго были, в общем, неплохи. А вот язык говорящего попугая, на взгляд Попидия, больше всего напоминал личинку мухи, и вкус у него был в точности такой же, какой наверняка будет у личинки мухи, если ее вымочить в уксусе. Потом тушеная печень соловьев...
Попидий оглядел раскрасневшиеся лица своих сотрапезников. Даже жирный Бриттий, хваставшийся когда-то, будто он в одиночку съел хобот слона, и позаимствовавший девиз Сенеки «Ешь, чтобы отрыгивать, отрыгивай, чтобы есть» — и тот мало-помалу начал зеленеть. Бриттий перехватил взгляд Попидия и что-то сказал ему одними губами — но Попидий не разобрал, что именно. Он приставил ладонь к уху, и Бриттий, прикрыв рот салфеткой, чтобы не увидел Амплиат, повторил, выделяя каждый слог: «Три-маль-хи-он».
Попидий едва не расхохотался. Тримальхион! В самую точку! Чудовищно богатый вольноотпущенник из сатиры Тита Петрония. Он там задает своим гостям в точности такое же пиршество и не видит, до чего же он нелеп и вульгарен. Ха! Тримальхион! На мгновение Попидий мысленно вернулся на двадцать лет назад и вновь почувствовал себя молодым аристократом из свиты Нерона, и вспомнил, как Петроний, этот арбитр изящества, веселил собравшихся своей беспощадной сатирой на разбогатевших выскочек.
Внезапно Попидий ощутил прилив сентимен-тальности. Бедняга Петроний! Изящество и умение повеселить других не пошли ему на пользу. Нерон в конце концов заподозрил, что Петроний исподтишка потешается над его императорским величеством, в последний раз взглянул на него сквозь свой изумрудный монокль и приказал Петронию покончить с собой. Но Петроний умудрился посмеяться даже над смертью. Он устроил обед на своей вилле в Кумах, в самом начале вскрыл себе вены, потом перевязал их, чтобы поесть и поболтать с друзьями, потом снова открыл, снова перевязал — и так до тех пор, пока не угас. Последнее, что он сделал, пока еще пребывал в сознании — разбил свою знаменитую чашу ценою в триста тысяч сестерциев, которую император надеялся унаследовать. Вот это стиль! Вот это изящество!
И вот до чего докатился я, с горечью подумал Попидий. Я, некогда игравший и певший вместе с властелином мира, к сорока пяти годам превратился в пленника Тримальхиона!
Он взглянул на своего бывшего раба, возлежащего во главе стола. Попидий до сих пор толком не понимал, как же это все произошло. Началось, конечно же, с землетрясения. Потом, несколько лет спустя, умер Нерон. Затем последовала гражданская война, императором стал торговец мулами, и весь мир Попидия встал вверх тормашками. Амплиат как-то внезапно оказался повсюду: он заново отстраивал город, возводил храм, пропихивал своего сына-младенца в городской совет, контролировал выборы и даже купил себе соседний дом. Попидий никогда не был силен в арифметике, и потому, когда Амплиат сказал, что он тоже может кой-чего заработать, он подписал договор, не читая. Потом как-то получилось, что деньги куда-то ухнули, потом оказалось, что его дом заложен и единственным способом избежать унижения, связанного с выселением, стала женитьба на дочери Амплиата. Только представить себе: его же бывший раб станет его тестем! Попидий опасался, что его мать умрет от стыда. С тех пор как она узнала об этом, она почти перестала разговаривать, и лицо ее сделалось изможденным от бессонницы и волнения.
Нет, он вовсе не прочь разделить ложе с Корелией. Отнюдь! Попидий жадно взглянул на девушку. Она лежала спиной к Куспию и о чем-то шепталась со своим братом. Его Попидий тоже не отказался бы трахнуть. Может, предложить ей развлечься втроем? Нет, она ни за что не согласится. Не женщина, а ледышка какая-то. Ничего, скоро он ее разогреет. Попидий снова встретился взглядом с Бриттием. Экий он затейник! Попидий подмигнул ему, указал глазами на Амплиата и снова произнес одними губами: «Тримальхион!»
— Что ты сказал, Попидий?
Голос Амплиата разнесся над столом, словно щелчок бича. Попидий съежился.
— Он говорит: «Вот это пир!» — Бриттий поднял свой бокал. — Мы все это говорим, Амплиат. Великолепный пир!
Гости одобрительно загудели.
— Но лучшее еще впереди, — сказал Амплиат. Он щелкнул пальцами, и один из рабов тут же умчался в сторону кухни.
Попидий кое-как изобразил улыбку:
— Я был благоразумен, Амплиат, — я оставил место для десерта. — По правде говоря, его тошнило, и Попидию сейчас не понадобилось бы обычной чаши с теплым рассолом и горчицей, чтобы отрыгнуть все съеденное. — И что же это будет? Корзина слив с горы Дамаск? Или твой повар приготовил пирог из аттического меда?
Поваром у Амплиата был сам великий Гаргилий, купленный за четверть миллиона вместе с его кулинарными книгами и всем прочим. Таково нынче побережье Неаполитанского залива. Поваров ценят выше, чем тех людей, которых они кормят. А цены нынче совершенно безумные. И деньги достаются совершенно не тем людям.
— О, время десерта еще не подошло, дорогой мой Попидий. Или, может, мне — если это не слишком преждевременно — лучше называть тебя сыном?
Амплиат усмехнулся, и Попидию стоило нечеловеческих усилий скрыть охватившее его отвращение. О, Тримальхион, подумал он, Тримальхион...
Тут послышались шаркающие шаги, и в дверях появились четыре раба. Они несли на плечах модель триремы длиной в человеческий рост, выполненную из серебра; трирема плыла по морю, выложенному из сапфиров. Гости зааплодировали. Рабы подошли к столу, опустились на колени и с трудом передвинули трирему на стол. В триреме, полностью заполняя ее, лежал огромный угорь. На месте глаз у него красовались рубины, а из распахнутой пасти торчали клыки из слоновой кости. К спинному плавнику был прикреплен перстень с алмазом.
Первым дар речи вернулся к Попидию:
— Вот это чудовище!
— Мурена из моих собственных садков в Мизенах, — с гордостью сообщил Амплиат. — Ей, должно быть, лет тридцать. Я поймал ее вчера вечером.
Видите перстень? Я полагаю, Попидий, что это та самая тварь, которой любил петь твой друг Нерон. Он взял со стола большой серебряный нож.
— Ну, кто нанесет первый удар? Корелия, я думаю, это дело для тебя.
Попидий решил, что это неплохой жест с его стороны. До этого момента отец явно игнорировал Корелию, и Попидий даже заподозрил, что они относятся друг к другу с неприязнью — но теперь он явно выказывал дочери свое расположение. Но тут, к изумлению Попидия, девушка метнула на отца взгляд, полный неприкрытой ненависти, отбросила салфетку, вскочила с ложа и с рыданиями выбежала из-за стола.
Первые два пешехода, попавшиеся Аттилию, слыхом не слыхали о заведении Африкана. Но в переполненном трактире «Геркулес», расположенном чуть дальше по улице, сидевший за стойкой человек хитро взглянул на инженера и, понизив голос, описал дорогу — вниз по склону, до следующего квартала, направо, потом первый поворот налево — и добавил:
— Но будь там осторожен, гражданин, и смотри, с кем разговариваешь.
Аттилий заподозрил, что все это может означать, и окончательно утвердился в своей догадке, когда улица, на которую он свернул, начала петлять, а дома — жаться друг к дружке. Время от времени перед входом в ту или иную хибару красовался высеченный из камня фаллический символ. В полумраке виднелись яркие наряды проституток, напоминающие желтые и синие цветы. Так вот где предпочитал проводить время Экзомний! Аттилий невольно замедлил шаг и даже задумался, не повернуть ли ему обратно. Но потом вспомнил своего отца, умиравшего на тюфяке в углу их маленького дома, — еще одного честного дурака, из-за своих нерушимых моральных принципов оставившего вдову без средств к существованию, — и продолжил путь; но теперь, в порыве гнева, он шагал куда быстрее.
В конце улицы на тротуар выдавался массивный балкон первого этажа, превращая улицу в переулочек. Аттилий вошел в дверь, растолкав группу каких-то бездельников, красных от жары и выпитого вина, и очутился в грязной прихожей. В воздухе витал резкий, почти животный запах пота и спермы. Подобные заведения именовались лупанариями, по созвучию с воем волчицы в течке. Лупа — волчица — это было уличное название блудницы. Шлюхи. Проституция внушала Аттилию отвращение. Откуда-то сверху донеслось пение флейты, что-то тяжело ударилось об доски пола, раздался мужской смех. С другой стороны, из отгороженных занавесками комнатушек, слышались совершенно ночные звуки: храп, шуршание, похныкивание ребенка.
На табурете, широко расставив ноги, восседала какая-то женщина в зеленом платье. Увидев Аттилия, она нетерпеливо двинулась ему навстречу, протягивая руки; пунцовые губы сложились в привычную улыбку. Женщина подкрасила брови сурьмой, нарисовав их так, что они почти сходились над переносицей. Некоторые мужчины находили это красивым, но Аттилию она напомнила посмертные маски Попидиев. В полутьме акварий не мог сказать, сколько ей лет — вполне могло оказаться и пятнадцать, и пятьдесят.