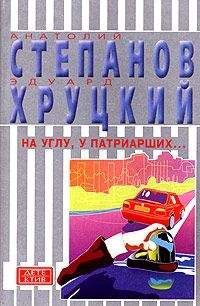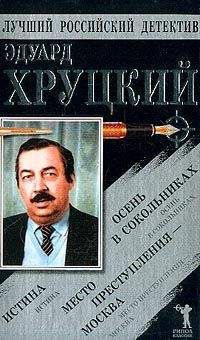Елена Толстая - Фартовый человек
Макинтош опять выбрался на улицу. Теперь уже пошло за полночь, начало ощутимо подмораживать, как будто где-то повернули вентиль и выпустили новую порцию холода. Но все равно нынче было не так холодно, как в зиму восемнадцатого года, когда люди мерли как мухи. Гришка тогда болел, а когда поправился, то утратил всякую память о прошлом. Как будто народился прямо весной восемнадцатого года, скелетообразный и бритый наголо. Потом оброс, конечно, но память так и не вернул. И не очень-то стремился, честно говоря. Наличествовали другие заботы.
Макинтош покинул Лиговку и, прошмыгнув проходными дворами, вынырнул на Старо-Невском. Лавра бухала колоколом, густо и скучно, как будто кашляла. Обширная площадь перед ней заросла сугробами, но возле самых ворот расчистили место, и там, как крупные кучи мусора, чернели люди. Колокол еще подергался и затих, только гул еще недолго расходился по воздуху.
Макинтош перебрался через снежные горы и приблизился к воротам. Нищие даже не пошевелились, когда он появился, только один устремил на чужака долгий, злобный взгляд, как будто пытался пересчитать все Гришкины воробьиные ребра.
Потом показались господин с барышней. Они переговаривались на ходу – он снисходительно ронял откормленным баритоном: «Сразу за этим рассадником блох и суеверий – недурнецкий ресторан», а она щебечуще смеялась. Макинтош хмуро заступил им дорогу. Поначалу он смутно надеялся на то, что барышня начнет раздавать мелочь «несчастным», клубившимся возле лавры, но при таком революционно настроенном спутнике это вряд ли возможно.
При виде Макинтоша барышня завизжала так, словно сама она взрослела не на том же самом тонущем корабле, что и Гришка, и беспризорника видела впервые в жизни. Именно это лицемерие, а вовсе не дикий визг барышни обозлило Макинтоша, и он грубо сказал ей:
– Ты заткнись, дура.
– Погоди-ка, – вымолвил господин. Он брезгливо оттолкнул Макинтоша тростью, так что мальчик рухнул в сугроб. Нищие у ворот взирали на эту сцену с бесстрастностью египетской аллеи сфинксов.
Господин опять свернул руку колечком, предлагая барышне опору. Она преувеличенно тяжело дышала, глядела на Макинтоша широко раскрытыми, очень злыми глазами и круглила губы, как будто хотела свистнуть, но не умела.
– В чем дело, товарищ? – послышался вдруг приветливый голос.
Макинтош так и не понял, откуда появился этот человек. Только что его не было, и вдруг он выступил из темноты, под свет чудом недобитого фонаря. Фонарь светил экономно, оставляя на снегу жидкое желтое пятно, но человек весь занял собой это пятно и стоял, обмазанный светом, как маслом.
Макинтош почему-то сразу успокоился. Перестал барахтаться в снегу и сразу очень удачно выбрался на свободу. Встал поближе к незнакомцу, в общем-то независимо, но так, чтобы при случае юркнуть за его спину.
– Ну так что, товарищ? – продолжал незнакомец, весело рассматривая буржуя в шубе. – Ты чего это посреди ночи по улицам гуляешь?
– Я… У меня… – сказал господин с меховым воротником. Он вдруг больно стиснул пальцы прилипшей к нему барышни и полез в карман.
– Ты чего? – рассмеялся незнакомец. – У тебя там что, пистолет схоронен? Ты это дело, товарищ, брось. А? Для чего мы с тобой, к примеру, революцию совершали? Ты вникни в проблему.
К удивлению Макинтоша, нэпмач сник, покивал головой и вытащил кошелек.
– Ну вот, – одобрительно проговорил незнакомец. – Другое дело. А то нехорошо, товарищ, очень нехорошо пихать товарищей в грудь кулаком и говорить им плохие слова. – Он взял кошелек и кивнул господину в шубе: – Не могу вас больше задерживать.
Господин двинулся вперед, волоча за собой барышню, но она вдруг вырвалась, крикнула: «Дурак!» – и быстро убежала, мелькая из-под подола чулками. Незнакомец проводил ее взглядом, прищурился:
– Простудится. Чулочки хлипкие.
– Они в ресторан шли, – вымолвил Макинтош, против воли жадно глядя на кошелек, оказавшийся в руках незнакомца.
Незнакомец сказал ему:
– Пройдем.
Они скрылись в зеве Старо-Невского, подальше от монастырских нищих.
– Не люблю их, – заметил незнакомец, даже не потрудившись кивнуть в ту сторону, где осталась «аллея нищих». – Смутный они народ. И жадные к тому же. Ты, примерно, жадных любишь?
– Нет, – сказал Макинтош. – А что их любить? Странные вопросы ставишь.
– Знаю, что странные… – Незнакомец кивнул. – Скоро время вопросов окончится. Погоди, осталось недолго, – пообещал он задумчиво. – Ты кто?
– Я Макинтош, – представился мальчик.
Незнакомец подал ему руку и пожал, как взрослому. Рука оказалась твердая, с маленькими мозольками, и на ощупь хрящеватая.
– Я Ленька Пантелеев, – сказал незнакомец просто и вместе с тем не без торжественности, как будто сообщал известие чрезвычайной важности. – Будем знакомы.
Макинтошу он сразу очень понравился. И не в том даже дело, что Ленька не побоялся нэпмача с широким меховым воротником и пистолетом в кармане, а просто в том, какой он был, Ленька. Он был спокойный. Все кругом какие-то издерганные, как будто к каждому человеку приделано миллионное число веревочек и все эти веревочки постоянно цеплялись за разные сучки и задоринки. Кажется, ничего дурного ты против человека не совершаешь, а просто идешь себе мимо; ан нет – оказывается, одним своим присутствием ты уже ухитрился встревожить десятки выпущенных повсюду веревочек, и вот на тебя ни с того ни с сего орут, от чистой нервности, и норовят съездить по уху, а главное – сами так огорчаются, что глядеть боязно: глаза выпучиваются, щеки покрываются пятнами, и веки трясутся и шлепают, как жабья губа.
А Ленька весь был спокойный и оттого казался ужасно сильным. У него было приятное простое лицо: крепкие скулы, лоб с двумя небольшими выпуклостями, улыбчивый рот.
– По улице зачем ходишь ночью? – строго спросил Ленька. – Видал, какие персонажи здесь околачиваются? С ними одним воздухом дышать – и то срамно. – Он посмотрел в ту сторону, куда скрылся нэпмач.
– Да у нас в полуподвале все этот Юлий торчит, – объяснил Макинтош. – Прокурил все и в карты дуется. Надоел как редька.
Ленька чуть насторожился:
– Какой Юлий?
– Да наш, с Сортировочной, – нехотя ответил Макинтош и в сердцах махнул рукой. – Может, спать наконец улегся. Или вовсе ушел.
Ленька открыл кошелек, разделил имевшиеся там деньги пальцем на две половины и одну отдал Макинтошу.
– Забирай честно экспроприированное, – сказал он. – Ну, прощай, Макинтош.
Макинтош, не отвечая, сунул деньги в карман и отвернулся. Город мгновенно съел его.
Глава вторая
Рахиль Гольдзингер была младшей и самой красивой из дочерей мельника. Старшие уродились в отца и были длинноносы, с копной темных, неистовых, как ночи Клеопатры, волос и огненными черными очами. В детстве они напоминали галчат. Превращение галчонка в роковую красавицу происходило внезапно, как удар ножом в сердце. Тихая, кроткая мать только диву давалась – как такое возможно.
А вот меньшая, Рахиль, всегда оставалась прехорошенькой – и в младенчестве, и в отрочестве. Сперва она была похожа на ребенка с коробки монпансье, потом – на девушку с коробки одеколона. Единственная из всех детей Рахиль пошла в мать – рыжую. Только вот мама никогда рыжей на памяти дочерей и не была, она очень рано состарилась и вся пошла меленькими морщиночками и жиденькой сединой. Лишь в желтоватых глазах и угадывалась ее изначальная масть.
Старшая сестра Дора до самой глубины сердца поразила Рахиль, сказав:
– Ни за что на свете не хочу жить как мама.
У Доры были большие темные глаза с желтоватыми белками, чуть навыкате, но очень красивые. Дора много читала, и от этого ее глаза часто туманились мечтательной слезной дымкой.
Рахиль тогда ничего не ответила Доре. Впервые в жизни девочка по-настоящему задумалась над тем, что можно, оказывается, стать как мама и вести такую же жизнь. Дело в том, что раньше Рахили и в голову не приходило ничего похожего.
Мама никогда не принадлежала себе, начиная со своих восемнадцати, когда ее выдали за пятидесятилетнего мельника-вдовца, уже имевшего восемь человек детей после первой, умершей жены. Потом у мамы родились еще четверо своих. Старшие дети мельника были взрослее мачехи.
Стать как мама? Превратиться в богиню-рабыню, повелительницу двенадцати детей и своего повелителя? Подниматься в четыре часа утра и прокрадываться, пока все спят, в кухню, разводить там огонь и ставить хлеб в печку, и потом весь день крутиться по хозяйству? Быть вправе переменить любое решение отца, всего лишь робко пошептав ему пару слов в желтое, прижатое к черепу ухо? Как любое средоточие мира, мама не смела отлучиться ни на миг – ведь мироздание попросту рухнет, если извлечь из него сердцевину. Властная над всеми, лишь в себе самой мама властна не была…
Дора сказала младшей сестренке доверительно:
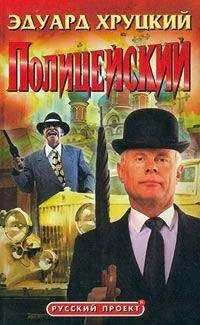
![Эдуард Хруцкий - Полицейский [Архив сыскной полиции]](/uploads/posts/books/165712/165712.jpg)