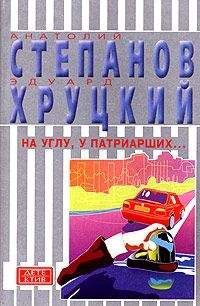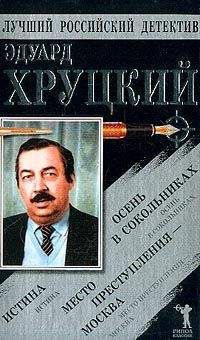Елена Толстая - Фартовый человек

Обзор книги Елена Толстая - Фартовый человек
Елена Толстая
Фартовый человек
Прерии Аргентины!
Охота на диких зверей!!
Двадцать четыре картины!
Семь знаменитых частей!
Город обширнее прерии,
Дичи немало возьмешь, —
Лишь выбирай поуверенней:
Лассо, свинчатку иль нож.
Елизавета ПолонскаяГлава первая
Год кончался, а есть было по-прежнему нечего. Странно и зыбко раскачивался под ногами город…
Макинтош не замечал этой зыбкости, никак не отзывался на нее. Он возрастал и обретал самосознание уже на тонущем корабле – и потому вовсе не мог помнить былой барочной громады парусов, раздутых, как кринолины, или собранных на марсах в турнюры. Вся эта роскошь благополучно обтрепалась и обвисла гнилыми клочьями, когда Макинтошу едва исполнилось семь. Когда-то такой возраст назвали бы «нежнейшим», теперь он именовался «неосмысленным». Взрослый обыватель еще в состоянии был, к примеру, мысленно оглянуться назад и с полным правом произнести что-нибудь убийственно-банальное вроде: «Ну и ну! Как непостижимо переменилась жизнь! И за какой же короткий срок!» Макинтош в свои двенадцать был надежно избавлен от этого глупого соблазна.
Ночь то кралась, то вдруг как будто замирала. В отдалении светились огни, и в морозном, разжиженном редчайшими фонарями воздухе казалось, будто там, возле вокзала, плещет смех – почти зримыми волнами. Лиговка длинным опасным каналом пролегала по самому дну ночи.
Макинтош брел посередине улицы, не опасаясь ни мотора, ни извозчика, и греб ногами сугробы.
В полуподвале у Валидовны и Харитины, где обитал Макинтош, опять засел этот Юлий. Юлий был несомненный шулер, но Валидовна не оставляла надежды обыграть его. Вообще она хорошо играла. Харитина – та похуже. Согласно авторитетному мнению Макинтоша, обставить Юлия в карты было невозможно. Впрочем, Валидовне пару раз это удавалось. Не иначе Юлий решил ей польстить, не то она вовсе разъярилась бы на него, выгнала и больше не пустила.
Возвращаться в полуподвал и смотреть, как Юлий, шевеля сжатой в зубах папиросой, «лишает Валидовну иллюзий», не хотелось, а на улице было холодно и с каждой минутой становилось холодней.
Откуда-то из ниоткуда, из ночной пустоты, явилась косматая тень, похожая на козлиную, только без рогов. Тень затрясла длинной бородкой и заговорила быстро, невнятно, путаясь в слюнях. Макинтош с тоской узнал юродивого Кирюшку.
Кирюшка обитал, по общему мнению, где-то под камнями мостовой, вылезал наружу только ночью, да и то не во всякую ночь, а в проклятую, дьявольскую, и изрекал пророчества, мрачные даже для пятого года революции. Где он на самом деле ночевал и чем питался – оставалось секретом, который, впрочем, прозорливому Макинтошу разгадывать совершенно не хотелось.
Кирюшка сунул руки в драных рукавицах за веревочный пояс, остановился у Макинтоша поперек пути и уставился прямо на него.
– Ну чего тебе? – сказал Макинтош хмуро.
Кирюшка не сводил с него глаз, горящих в ночном сумраке.
– Чего? – повторил Макинтош и попятился.
– Грядет! – тонким, бабьим голосом выкрикнул вдруг Кирюшка. – Грядет! Обидели Богородицу! Плакала красными слезьми! Вот те крест!..
Он с усилием вытащил из-за пояса распластанную ладонь, оставив рукавицу под веревкой, скрутил крепкий кукиш и обмахнулся наподобие креста.
– Плакала! Обидели! – повторил Кирюшка со злорадным торжеством. Слюна ползала в его бороде.
Макинтош косил глазами, отыскивая пути к бегству. Кирюшка опять сунул руку в рукавицу, пожал плечами и прибавил:
– А вот ты не веришь, собачонок… Тяв-тяв-тяв…
Макинтош безмолвствовал.
– Утратили веру! – завыл, даже запел Кирюшка. – Убили веру у народа! Убили царя православного! Красными слезьми плакала Богородица на Петроградской, где с грошиками,[1] красными… Вот, гляди.
И тут из глаз Кирюшки сплошным потоком полились слезы. Мутными показались они Макинтошу, но только поначалу. Чем дольше мальчик вглядывался в белеющее среди ночи лицо юродивого, тем отчетливее видел он темные, почти черные полоски на впалых щеках и тощей длинной бороде Кирюшки.
Не переставая плакать, юродивый рассмеялся. Куриная грудь его и бородка затряслись:
– Не верил? Иди потрогай! Тяв-тяв… Собачонок ты! Кровь это, кровь… Большая кровь грядет.
– Тьфу черт, – выговорил Макинтош невольно.
Несколько капель сорвалось с Кирюшкиной бороды и пало на снег. Макинтош отчетливо разглядел теперь – кровь. Не по цвету даже – цвета и не различишь толком, – а по особенному образу падать и клякситься. Никакая жидкость так не разбрызгивается. Особая повадка, выразился бы Юлий, чтоб ему провалиться с его гадкими польскими усиками и обаятельной улыбочкой, ямочки на щеках.
Макинтош попятился еще дальше, а потом повернулся к Кирюшке спиной и, высоко подскакивая в снегу, побежал прочь.
* * *В полуподвале у Валидовны действительно заседал Юлий, и накурено там было так, словно вдруг невесть откуда свалилось богатство. Макинтош помаялся в помещении, попытался разбуржуить Юлия на папироску – и по тому, как легко это удалось, сразу понял: Юлий глубоко ушел в игру и покидать полуподвал не собирается.
– Валидовна… – заныл Макинтош.
Старуха только отмахнулась.
Валидовна трудилась на Сортировочной в качестве сторожихи, а Харитина вела там какие-то учеты и записывала разное разбавленными чернилами на желтой бумаге, разграфленной жирными линиями, глубоко врезавшимися в плоть конторской книги. В былое время обе были грузчицами, но потом, «за старческой немощью», сменили ремесло. Невысокие, мясистые, с могучими плечами и явственными усами, старухи были похожи между собой, как родные сестры, хотя сестрами вовсе не являлись и, более того, изначально принадлежали к разным национальностям. По мнению Макинтоша, усатым старухам было лет по сто, никак не меньше. Как говорит Кирюшка в редкие минуты просветления, «посередь вечности времен не бывает».
Юлий возник осенью прошлого года – сомнительный знакомый сомнительного знакомого; рабочих рук не хватало, поскольку с наступлением новой эпохи руки преимущественно держались по карманам, порой по своим, но чаще по чужим. А тут на Сортировочной внезапно появились вагоны, которые следовало разгрузить, и срочно, поэтому Юлия допустили в замкнутое общество на Сортировочной. Сомнительный знакомый иссяк чрезвычайно быстро, а Юлий застрял – в виде чистого осадка. Потом опять временно не стало работы; тут-то и пошла карточная игра.
Макинтош даже смотреть не мог, как играют, сразу становилось тошно. Однажды Макинтош играл семнадцать часов кряду. По нужде – и то не вставал. Как во сне, брал и выкладывал карты; весь мир кругом померк, и все из мира ушло. Это как внутри математической задачи очутиться, где все ненастоящее.
Мальчик играл с другими беспризорниками на макинтош. Один из его противников был лет четырнадцати, другие чуть помладше. Макинтошу тогда было, наверное, лет десять или одиннадцать. И в те дни он еще не был Макинтошем, а назывался Гришкой-Замухрышкой и безуспешно пытался переделаться из Замухрышки в Махру.
Вожделенный кус, макинтош, лежал в углу заброшенной камеры хранения. Точнее, там лежал, уходя головой в уклон подвала, неизвестный покойник, а на нем как раз и находился этот самый макинтош. Очень прочный, непромокаемый, с настоящим воротником. Покойника нашли мелкие банщики,[2] но безраздельно завладеть имуществом по малолетству не сумели, и после нескольких серьезных разговоров решено было сделать все по-честному и сыграть на добычу в карты.
Гришка потом думал, со смутной благодарностью небесам, что на него в те часы «нашло» – иначе как бы он выиграл? Под конец он уже все знал про карты, про соперников, про всю эту искусственную плоскую жизнь, которая имела свое юркое бытие в пальцах у игроков. Лично для него не осталось ни одного секрета. Рубашки карт представлялись прозрачными, как и людские мысли. Гришка прочно угнездился там, внутри карточного мира, и притом в роли царя и бога, почему и блефовал, не замечая, что блефует, и брал карту, точно зная, какую берет и для чего.
Открываясь в последний раз, он услышал, как рядом свистят и ругаются, понял, что выиграл, – и потерял сознание.
Очнулся Гришка оттого, что с покойника кто-то снимал макинтош. Мальчика будто током подбросило, он захрипел «Не трожь» и сразу распахнул глаза, полные звериной ярости. Поблизости на корточках сидел человек в бушлате. И смотрел он не на мертвеца, а на мальчика.
– Это мое, – пробормотал Гришка. – У меня нож есть.
Человек гибко поднялся и сразу же ушел. Может быть, он даже испугался. Или же понял, что здесь все происходит по справедливости, а когда по справедливости – нарушать себе дороже.
Гришка помнил все это отрывочно. Он поднялся, спокойно снял макинтош с мертвеца, подвернул рукава, подпилил ножом полы, чтобы не волочились по мостовой, и сделался из Гришки Макинтошем.
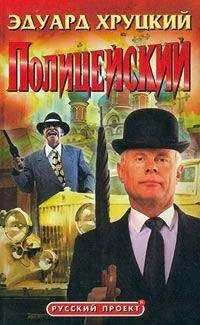
![Эдуард Хруцкий - Полицейский [Архив сыскной полиции]](/uploads/posts/books/165712/165712.jpg)