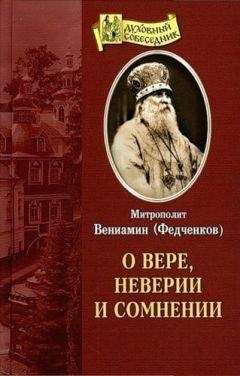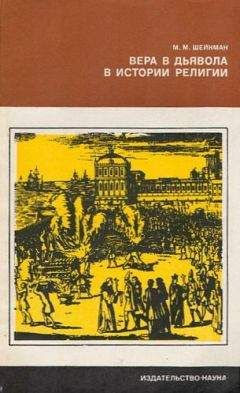Татьяна Романова - Сизые зрачки зла
– Надо же, Горчаков производит впечатление приличного человека, хотя сам – обычный трус, – с горечью заметила Румянцева.
– Я не могу осуждать его, тетя, боюсь, что в свете найдется мало желающих помочь бедным офицерам, виновным лишь в том, что были по-юношески наивны.
У Софьи Алексеевны не осталось сил что-либо обсуждать. В гостиную привели Надин, и расстроенные женщины тут же уехали. В молчании добрались они до особняка Румянцевых. Мария Григорьевна не стала настаивать и отпустила племянницу с внучкой домой. Но воспоминания о сегодняшнем разговоре все время мучили ее, почему-то старушке казалось, что князь Платон действует по указке Чернышева. Вроде бы Горчаков выглядел достойно. Чем же зацепил его генерал-лейтенант, если князь Платон забыл о порядочности и чести? Да если рассказать о его поступке в свете, Горчакова перестанут принимать! Или теперь не перестанут? Вдруг сочтут его поведение разумным? Старая графиня огорченно вздохнула, и Бунич, как обычно развлекавший ее за ужином забавными рассказами, замолчал и шутливо поднял вверх обе руки:
– Сдаюсь, драгоценнейшая Мария Григорьевна. Сегодня мое остроумие не находит отклика в вашей душе. Не стану надоедать, ведь я вижу, что вы сильно озабочены. Может, я смогу хоть чем-нибудь помочь?
– А ведь действительно сможешь, дружок! Напомни мне, наша с тобой соседка Катя Обольянинова не за князя ли Горчакова замуж вышла?
– Да, за него. С чего это вы про нее вспомнили?
– Да, похоже, я с сынком ее нынче беседовала, – поморщилась Румянцева, – редкостным поганцем оказался этот князь Платон.
– Ну, а чему вы удивляетесь? Какая семья – таков и сын. Если в этом семействе не было ни чести, ни достоинства, какими могли вырасти дети? Припомните, чем кончилось замужество нашей соседки!
– А ведь действительно, – откликнулась Румянцева, вспомнив уже подзабытую историю, всколыхнувшую когда-то всю столицу. – И как же я об этом запамятовала? Если бы знала, не стала бы вовсе с Горчаковым разговаривать. Спасибо, что раскрыл мне глаза. Надо же, действительно, яблоко от яблони… Впрочем, может я и ошибаюсь. Чужая душа – потемки…
Человек глядел из темноты. Так было даже лучше, ведь девушка двигалась в круге света – как на сцене. Он различал мельчайшие складочки на ее платье, тонкую оборку кружевного воротника, каждую прядку, закрученную в тугие локоны, и, конечно же, он видел ее лицо. Как можно осязать, не прикасаясь? А он мог! Он видел белоснежную, как молоко, кожу, и кончики его пальцев начинали дрожать лишь от предвкушения прикосновения. Он знал, что под пальцами заструится бархатистое тепло, а черные локоны окажутся, наоборот, холодными и шелковистыми. А какой изумительный рот дала ей природа! Нижняя губа – как будто слегка припухшая – очерчена идеальной дугой, а верхняя изогнута четко прорисованным луком. Упоительное наслаждение – «рахат-лукум».
Девушка ходила рядом, она не видела его и не боялась темноты. Похоже, что она вообще ничего еще в жизни не боялась, но это – беспечность молодости. Никто еще не показал ей, что значит власть мужчины, не дал знать, где ее место. Кровь в жилах человека уже кипела и звала сделать шаг из темноты и поразить свою жертву. В этом была великая справедливость, ведь на свете всегда есть лишь двое – охотник и жертва. Если ты не стал охотником, то непременно сделаешься жертвой. Этому его не нужно было учить. Зачем, если он и так родился великим?! Ну, а жертва его должна соответствовать силам охотника. Она такой и оказалась – великолепной.
Человек сделал шаг и ступил за грань темноты. Девушка заметила мелькнувшую тень и кинулась прочь. За ней! Куда она бежит? К дверям? Неужто они не закрыты? Ну ничего, он бегает быстрее. Дверь распахивается, и его жертва вылетает из дома. В два шага добегает он до двери и вновь толкает ее. Зимняя ночь кидает ему в лицо пригоршню снега. Хорошо, что идет снег, беглянка сразу сбавит темп. Но где она? Лакированный бок экипажа закрывает обзор. Сейчас он обогнет карету и увидит свою жертву, но и этого не нужно: экипаж трогается с места и отъезжает. Однако улица пуста, и девушки больше нет! Он кидается вслед экипажу, но серая тройка летит вперед, унося беглянку. Скорее, ее еще можно догнать! Человек несется так, что разрывается сердце, уже нечем дышать. В бессилии падает он в киснущий на мостовой снег … и просыпается.
«Экипаж! Дело в нем», – стучит в его мозгу. С этим нужно что-то делать, и раз так, то он сделает!
Глава 4
С этим нужно что-то делать, иначе он сойдет с ума!.. Князь Горчаков застегнул медвежью полость саней и велел трогать. Он все никак не мог отойти от неприятного разговора. Милая дама – мать его молодого подчиненного Владимира Чернышева не поверила Платону и посчитала его тривиальным трусом, хотя он сказал ей истинную правду. Его заступничество не помогло бы ее сыну, ведь Платон уже обошел всех влиятельных людей столицы, прося за собственного младшего брата, оказавшегося в одной лодке и с сыном этой женщины, и со всеми остальными вольными или невольными участниками декабрьского восстания. Князь уже говорил со Сперанским, с Бенкендорфом и с Чернышевым, за этим же он приезжал и к Кочубею, зная, что новый царь уже предложил Виктору Павловичу вернуться к делам.
Только Кочубей обнадежил сегодня Платона, пообещав сделать все, что в его силах, дабы облегчить участь Бориса Горчакова, все остальные ответили отказом. Самый тягостный разговор получился со Сперанский, тот заглядывал ему в лицо безнадежными слезящимися глазами и тихо объяснял:
– Голубчик, ведь умышление на цареубийство карается по закону четвертованием, а все члены тайного общества по крайней мере обсуждали этот вопрос, они поголовно это подтвердили.
Платон тогда попытался объяснить собеседнику то, что казалось ему самому естественным:
– Михаил Михайлович, но ведь это – только разговоры, мой брат не участвовал в восстании, он находился в своем полку, и виновен лишь в том, что, будучи в столице, обсуждал с приятелями проекты реформ. Если бы это было серьезным, то Борис поделился бы со мной. Все молодые – идеалисты, моему брату всего двадцать три, он еще не видел жизни и свято верит в благородные идеалы. Пять-шесть лет – он остепенится и растеряет иллюзии.
Сперанский, вздохнув, возразил:
– По-человечески – все так, как вы и говорите, а по закону, не менявшемуся двести лет, выходит иначе. Я честно вам скажу, что формально избежать наказания невозможно, я надеюсь лишь на милосердие государя.
Платон не стал с ним спорить, а поспешил откланяться, поняв, что помощи у Сперанского не найдет. Бенкендорф отказал сухо, попросив не обращаться к нему с подобными вопросами. Чернышев же долго и с наслаждением расспрашивал Платона о том, что и когда говорил ему брат о своих взглядах. Потом, поняв, что Горчаков не скажет про арестованных ничего порочащего, генерал-лейтенант высокомерно сообщил, что следствие еще не закончено, и об участи преступников можно будет говорить после того, как будет объективно определена вина каждого. Осталось признать, что ничего-то Платон не добился, и только встреча с Чернышевым дала хоть что-то полезное: тот разрешил свидание с Борисом, и завтра утром Платон надеялся увидеть брата.
Он вновь вспомнил полупрозрачное лицо графини Софи. Ее голубые глаза с дрожащими слезинками смотрели на собеседника с надеждой, а когда он отказал, в глубине этих глаз мелькнуло отчаяние, а потом застыла безнадежность. Платон ясно читал все ее чувства по лицу, и вспоминать об этом было до боли стыдно.
«Нужно уходить в отставку! Какой я командир своим офицерам, если не могу их защитить? Они не простят, что я все свое влияние и связи направил на помощь собственному брату, а не подчиненному», – признал Платон.
Но как же можно выбирать? Борис – единственный родной человек, Малыш, младший из четверых детей когда-то счастливой семьи. Платон всегда обожал брата, а после того как под Бородино сложили головы Сергей и Иван Горчаковы, относился к Борису с отчаянной, почти отцовской нежностью.
«Я не уберег всех троих, вот жизнь и наказала меня за былую категоричность. Если бы мать сейчас спросила, кто же из нас был прав – я не знал бы, что ответить, возможно, под ее опекой с братьями ничего не случилось бы», – честно признался он самому себе.
Умом он понимал, что спасти жизни средних сыновей в беспощадном сражении двенадцатого года мать не смогла бы, но, может, она повлияла бы на их выбор, отговорив поступать в гвардию.
«Мы ведь с братьями, пока они были живы, никогда не говорили о матери, – вдруг отчего-то вспомнил Платон, – а теперь уже ничего нельзя исправить. Может, и Борис ничего не сказал о своем участии в тайном обществе, потому что считал меня жестким и сухим человеком? Но этого не может быть! Я всегда просто душил его заботой, надоедал с нежностями. По крайней мере, в моей любви он не сомневался».