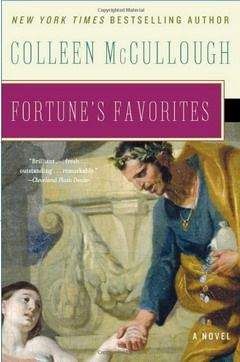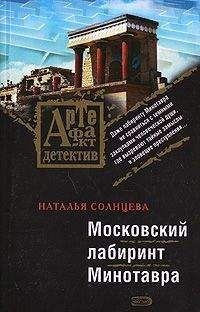Наталья Горчакова - Я написала детектив
Так вот откуда ваша неуемная разговорчивость.
— Клиентура у него появилась обширная и состоятельная. Деньги потекли рекой, зарабатывал он весьма недурственно. Увидев картины, приобретенные папенькой, особенно Лентулова, дед только поморщился: «Тьфу, гадость какая. К себе забери. Видеть это уродство не хочу». И купил еще один пейзаж Шишкина. Его он вообще предпочитал всем остальным, должно быть видя свое, родное в дремучих лесах и необъятных просторах. Коллекция пополнялась, и в конце концов дед открыл бы частный музей, да только произошло несчастье и он погиб незадолго до революции — совсем не так, как предсказывали ему когда-то близкие, не в результате коллизий, связанных с игрой, а на одном из собственных заводов, где случилась авария. Однако дед успел заразить папеньку идеей музея, и тот продолжал собирать живопись, ту, которая больше была ему по сердцу, намереваясь воплотить замыслы отца в жизнь. Но тут грянула революция, уничтожив и папенькины планы. Живопись свалили на чердак, боясь даже заикнуться о передаче ее в какой-то из национализированных музеев, понимая, чем это кончится. Тогда нужно было сидеть тише воды ниже травы, особенно с нашим непролетарским происхождением. Папенька вывез семью в деревню подальше от потрясений, там мы пережили первые непростые годы гонений и репрессий. Когда началась эпоха НЭПа, все несколько воспряли духом, семья вернулась в Москву. Папенька поступил на службу: скромным счетоводом. Меня еще тогда не было. Конечно, мы не оказались в нашем прежнем доме, который находился в одном из староарбатских переулков. Все картины, как ни странно, уцелели и даже не пострадали ничуть. Их тайком перевезли к нам, где и хранили потом долгие годы в кладовке за разным хламом. Тетушка моя Ефросинья с мужем уехала в Екатеринбург, где вскоре и умерла — тиф свирепствовал. Дядя Николай отправился с семьей во время войны в эвакуацию, да их поезд обстреляли, и первый же снаряд попал в вагон, где они находились. А мы вот, ирония судьбы, остались в Москве, уцелели и даже репрессий каким-то чудом избежали. Бывало, бедствовали ужасно, продавали золотые украшения, безделушки, фарфор кузнецовский. Но ни одной картины так никогда и не тронули, даже после смерти папеньки. Он не позволял, а мы уже и не могли. Это святотатством было бы по отношению к нему. Так и перебивались. Папенька-то умер, мне двадцать лет было. С детства я его рассказы о нашей коллекции слушала, вначале это для меня вроде сказок было. Помню, сядет папенька со мной и говорит: «Анфисочка (он меня Анфисой звал), сохрани коллекцию. Это наше достояние. Все проходит. Слава, деньги — тлен. А это останется и нас переживет». До сих пор я его наставление помню и памяти его никогда не предам.
Анфилада Львовна посмотрела куда-то сквозь меня, словно увидела своего папеньку.
— Удивительная история, — сказала я — любительница всяких семейных преданий.
— А по линии Виталика тоже историйка, скажу я вам, вышла нешуточная, — продолжала вещать Анфилада Львовна, — прадед мой Афиноген Аполлинариевич выдал сестру за приятеля своего, с которым они дела вели. Потом, говорят, они с ним в пух и прах разругались из-за какой-то вздорной истории, связанной опять же с картами, порвали всякие отношения, и вместе дел уже никаких не вели. Поскольку прадедушка был человек последовательный и бескомпромиссный, то и сестру свою видеть больше не захотел — такой уж у них разлад вышел. Прабабка же моя, не в пример ему, женщина была жалостливая, сердечная. Она потихонечку захаживала к свояченице да детей приводила, чтобы родню свою знали, тетушку почитали. Так дед мой подружился со своим двоюродным братом и сестрой, и после смерти прадедушки семья вновь воссоединилась, и старые обиды были забыты. Дедушка предложил менее удачливым родственникам поучаствовать в бизнесе, что, как известно, не всегда заканчивается хорошо — пример тому мой прадедушка со своим другом, хоть поругались они из-за другого. Да в этом случае царил лад, процветание. Младшая дочь из этой отвергнутой в прошлом семьи вышла замуж за Соколова Петра Григорьевича. Скандал опять же вышел немаленький. Петр Григорьевич был человеком простого звания, из разночинцев, и родители были, само собой, против подобного мезальянса. Молодые обвенчались тайно. Наученные горьким опытом подобных скандалов, родители посетовали, погоревали да простили ослушников. Вот такая коллизия приключилась. Так что Виталик-то не родной мой племянник, а троюродный.
Потом на меня посыпался град вопросов о моих взаимоотношениях с Говоруном. Как мы познакомились, давно ли работаем вместе. Не имея ни малейшего понятия, что наговорил ей племянник, я юлила и пыталась отвертеться.
— Ну что же вы не пьете чай, деточка? — воскликнула Анфилада Львовна между моими невнятными отговорками. — Ничего не берете, не кушаете. Вы такая худенькая. Наверное, мучаете себя разными диетами? Это сейчас так модно, но вам, безусловно, ни к чему.
Чай я не могла пить, поскольку сначала слушала, затем отвечала на бесконечные вопросы, а объяснить, что не сижу ни на каких диетах, уже не смогла, так как не нашла ни единого просвета в лекции о вреде диет.
Мне тут же захотелось сбежать. Подумав о своих любимых сережках, осталась.
Завидев наконец крошечную возможность вставить слово — Анфиладе Львовне тоже надо было перевести дыхание, — я воспользовалась удобным моментом.
Конечно, я понимаю, старушка живет одна, рада любому собеседнику. Но не могу же я целый день торчать в ее квартире без толку, без дела. Пора бы и к отступлению готовиться. А мы о деле и не заговаривали.
— Анфилада Львовна, расскажите мне, пожалуйста, о тех картинах, которые у вас похитили. Сколько их было? Две?
Я ожидала, что она тут же уцепится за возможность обсудить такой насущный вопрос и поведает мне во всех ужасающих подробностях, как не обнаружила двух самых любимых (или не самых) картин из коллекции, как переживает по этому поводу, возможно, мысленно просит прощения у папеньки, что не уберегла завещанное ей наследство, не доглядела. Надеюсь, сердечный приступ у нее не случится. То, что она любит свою коллекцию, отнюдь не равнодушна и сделает все, чтобы ее сохранить, сразу понятно.
Как ни странно, Анфилада Львовна не спешила дать выход эмоциям.
— Так Виталик знает, — неожиданно для меня возразила старушка.
— Повторите еще раз, пожалуйста, — попросила я снова, — возможно, вы о чем-то не упомянули, пропустили нечто важное.
Она неторопливо передвинула сахарницу, блюдо с пирожными. Результат, видимо, не удовлетворил — снова стала перемещать их. Помешала чай, посмотрела в окно, поправила воротничок у блузки и, наконец, произнесла:
— Это не очень большие были работы. Висели у меня в гостиной.
Этими сведениями она и ограничилась, занялась рассматриванием узора на скатерти. Повисла нехарактерная для нашей встречи пауза. Видимо, к этому она не хотела прибавить ничего.
— А когда они пропали? — не отступала я в свою очередь.
— Неделю назад. Пришла из магазина, смотрю: их нет. Я сразу увидела. На обоях два ярких пятна выделяются. Вокруг-то выгорело, а они так и бросаются в глаза.
— Больше ничего не взяли?
— Не взяли. Ни Мане, ни Писсарро, ни Куинджи, ни Левитана, ни Бакста… — с задумчивым видом перечисляла Анфилада, чье внимание привлекла теперь чайная ложка, безусловно, достойный объект для изучения, но не настолько же, чтобы забыть о краже.
— А посмотреть можно? — прервала я очередное молчание.
— Конечно, моя дорогая, пойдемте. Я вам все покажу.
Вновь обретя прежнюю живость, старушка бодро вскочила и повела меня в комнату. Я с любопытством пошла за ней.
Вид комнаты, завешанной картинами, поверг меня в мгновенный шок. Я с трудом пришла в себя от изумления.
Ну и квартира! Просто музей. Разве такое может быть? Что это? Подделки?
— Все подлинники, — ответила на мои мысли старушка.
Она не ясновидящая? То у двери дежурит, то мои мысли читает.
Как же могло сохраниться такое богатство? Не понимаю.
— Одно время все в кладовке за разными вещами лежало, боялись показать, — вновь пояснила Анфилада Львовна, — время тогда такое было, сами понимаете.
Определенно она ясновидящая.
И имя Галерея ей подошло бы куда больше. Этого добра хватит на галерею средних размеров. Краем глаза я увидела продолжение экспозиции в другой комнате.
Я не спеша рассматривала одну работу за другой, не веря, что вижу такое.
Снова повеселев, хозяйка рассказала историю каждой из картин, которые были крайне увлекательны. Что бы там ни было, но теперь мне совсем не хотелось уходить.
Строчки Николая Заболоцкого сами собой пришли на ум:
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Ее глаза как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.
Мы переходили от картины к картине, от одного шедевра к другому.