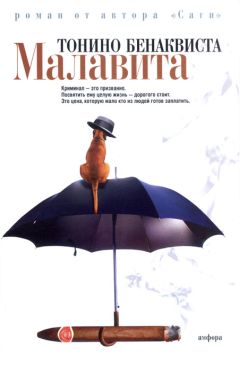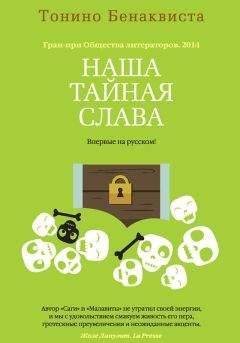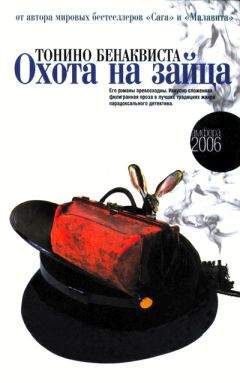Малавита - Бенаквиста Тонино
— Семьдесят второй.
— Семьдесят второй? Ты что, рехнулся? Она ж старуха, ну ты даешь, старик!
— Какая у нее была жизнь? Что с ней стало потом? Вышла замуж, завела детей? Говорят ли ей до сих пор люди: «А я вас голой видел в „Плейбое“, давненько это было». Изменили ли эти снимки ее жизнь? Как? К лучшему? К худшему? Жалеет ли она о них? Думает ли, что это был ее шанс? На что она сегодня похожа? Женщина, которая в течение целого месяца сводила с ума половину мужиков планеты — неужели она старится, как и все остальные?
Стью перестал возиться с бутылками и с беспокойством взглянул на приятеля.
— У тебя, наверно, период такой, может, ничего страшного, надо с кем-нибудь посоветоваться. У меня в твоем возрасте тоже были свои закидоны, но тут, извини, ты перегнул.
— Я напишу Хью Хефнеру, он должен знать, что с ней стало.
— Это кто?
— Человек, который основал «Плейбой» и придумал кролика Банни.
— Я бы на твоем месте поосторожней обращался со всеми этими сумасшедшими писаками. Не успеешь оглянуться, накличешь полицию.
— Поищу в интернете, на сайтах типа «Что с ними стало?»
— А ты не можешь вместо этого влюбиться в кого-нибудь твоего возраста? Да хоть в ту певичку из «Сенз», которую мы видели на вечеринке Студио А.
— А вдруг я нужен сейчас Линде Мэй?
— Пока что ты нужен мне, так что иди тащи мне эти долбаные эспрессо, чтобы я отправил эту сраную посылку, а твоими историями займемся потом, понял?
Так они и сделали, и вскоре Стью завинтил крышку последней бутылки, потом вытащил деревянный ящик, в котором его кофейному ликеру полагалось пересечь полтора десятка штатов с запада на восток.
— Твой дядя Эрван — это который автослесарь?
— Ты что, с дерева съехал? Дядя Дилан, если чего у меня попросит, может сразу начинать считать до миллиарда. Эрван, он в Райкерсе сидит, в тюрьме для долгосрочников, старый хрен, шансов выйти никаких! И семьи у него нет, у мудака, только я один, и я такой мудак, что варю ему его дерьмовый ликер.
Стью явно предпочитал худшего из двух своих дядей, старшего из братьев Догерти, который покинул Лос-Анджелес в конце шестидесятых вслед за одной пассионарней революционного движения, которое с тех пор развеялось как дым. Единственный вооруженный член партии, Эрван схлопотал пожизненный срок в «Райкерс Айленде», тюрьме штата Нью-Йорк, ни больше ни меньше, как за покушение на жизнь президента. Никогда не видев его за тюремной решеткой, Стью чтил дядю, менее за его политические убеждения, чем за исключительную меру наказания, которая позволяла ему изображать у себя в квартале маленького пахана.
— Я думал, в тюряге алкоголь запрещен.
— Там, где он сидит, единственное, что запрещено, так это расплачиваться в кредит. И потом, он так там прижился, что его чуть ли не выпускают за сигаретами. Он играет в карты с надзирателями, посредник в крупных стычках, он по-прежнему любит выступать. Он мне говорит, что, мол, он — не пример для подражания.
Не переставая говорить, Стью укладывал бутылки в ящик, оборачивая каждую цилиндром гофрированной бумаги, чтобы они не стукались друг о друга. За неимением лучшего, картон можно было заменить свернутым журналом. Машинально Стью схватил «Плейбой» 1972 года, чтобы укутать переднюю бутылку из полудюжины, и замер, парализованный воплем Донни:
— Линда Мэй!
Прижимая возлюбленную к груди, он принял страшное решение:
— Будешь ты мне помогать или нет, а я ее найду, Стью. И скажу ей, как много она для меня значит.
— Технически она могла бы быть твоей бабушкой.
Стью схватил другую газету, оказавшуюся на столе, и попытался разобрать название:
— «Ла Газет»… чего? Это на каком же языке написана эта фигня?
— Я откуда знаю, в этих контейнерах чего только нет.
Стью не нуждался в дальнейших разъяснениях и обернул вокруг густо-черной бутылки «Газету Жюля Валлеса», которая прочно закрепила бутыль среди пяти остальных. Он приклеил скотчем адрес на ящике: Джеймс Томас Сентер, 14 Хазен-стрит, Райкерс Айленд, Нью-Йорк, 11370, и скрутил две ручки из веревки, чтобы легче было нести. Привычное дело.
— Ну, найдешь ты ее и что скажешь своей «мисс Май девятьсот семьдесят два»?
Донни долго молчал, прежде чем ответить:
— Что я по-прежнему верю в нее.
Райкерс Айленд, тюрьма на траверзе Манхэттена, насчитывала 17 тысяч узников, мужчин и женщин, распределенных по десяти совершенно раздельным заведениям. Остров напоминал небольшое государство в государстве, расположенное менее чем в десяти километрах от Эмпайр Стейт Билдинг и считающееся самой крупной структурой в системе исправительных заведений мира. В корпусе, названном «Джеймс Томас сентер» в честь первого афро-американского надзирателя, сектор старожилов четко отграничен от других. На этом олимпе жулья пребывало несколько живых легенд крупного бандитизма, основополагающих фигур преступного мира и последних мифических парий, которыми так и не пресытились толпы. Каждый из них по совокупности располагал сроками, иногда доходящими до четырехсот лет заключения, так что мог умереть за решеткой, возродиться и снова умереть, и так далее в течение нескольких поколений. Для того чтобы войти в ультразакрытый клуб долгосрочников, надо было накопить как минимум двести пятьдесят лет без права сокращения срока.
Поэтому в квартале старожилов восприятие времени было не совсем таким, как во всех других местах.
Эти два десятка заключенных пользовались исключительными условиями заключения: их известность в большинстве случаев — личное богатство, юридическая поддержка, достойная крупнейших компаний, хорошие отношения с начальством исправительных учреждений трансформировали статус заключенных в статус проживающих на пансионе, а их камеры — в апартаменты, которые ни в чем не уступали лучшим особнякам в центре Манхэттена. Всем было уготовано там умереть, но торопить этот день никто не собирался.
В этот день двое из пансионеров, дружащие уже скоро четыре года (по личной шкале — срок, чтобы едва начать подавать руку), болтали, сидя в креслах, куря ритуальную сигару после обеда. Младший из них и, однако же, самый давний обитатель этих стен, террорист Эрван Догерти, пригласил соседа из камеры напротив, на двадцать лет старше себя, Дона Мимино, крестного отца всех крестных отцов итальянской мафии, сидящего уже около шести лет. Эрван, весьма подозрительно относящийся ко всем формам компанейства — он сумел сохранить полное молчание в течение почти восьми лет, — ценил в Доне Мимино старомодные манеры, философию другой эпохи и умение вести беседу, равное умению молчать. А для почтенного итальянца тот простой факт, что ирландец был единственным католиком в округе, составлял его первое достоинство.
— Я решил выучить свой родной язык, — сказал Дон Мимино.
— Как это?
— Я говорю на каком-то сицилийском диалекте, который непонятен уже для жителей соседней деревни. На нем теперь говорят только в некоторых уголках Нью-Джерси! Я хочу выучить материнский язык, тот, на котором говорят в Сиенне. Я хочу прочитать всего Данте в оригинале. Говорят, нешуточное дело. Я подсчитал, что если стану специалистом по средневековому итальянскому, то смогу одолеть «Божественную комедию» лет через пять-шесть.
Издавна в квартале долгожителей считалось во всех смыслах желательным начинать долгую учебу: большинство видело в этом возможность занять себя чем-то более интересным, чем качать мускулы или смотреть телевизор. Но не только.
— Потом я займусь английским, — продолжал он. — Прожить здесь шестьдесят лет и в конце концов говорить на каком-то ублюдочном языке, среднем между наречием эмигрантов и уголовным жаргоном, — чем уж тут гордиться. Поставлю себе цель: читать «Моби Дика» и не лезть в словарь на каждой странице.
Главное было не убить время, а придать смысл, и даже не один, сроку заключения, не подлежащему разумному толкованию. Как вообразить грядущие триста лет без всякой цели в жизни?