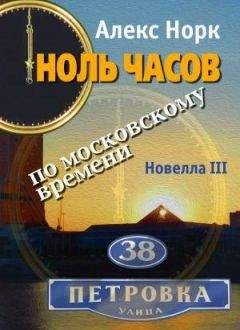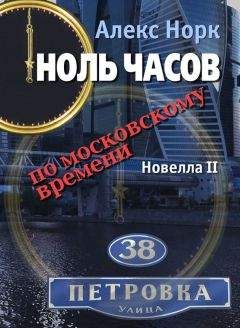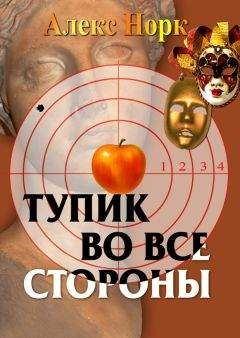Алекс Норк - Ноль часов по московскому времени. Новелла I
— Шо це…
Мы выезжаем на окружную, отсюда минут пять всего до поворота на кладбище. Теперь мне не надо следить за дорогой, сообщаю по рации, что у нас всё нормально, и повторяю инструкцию девушке:
— Не волноваться, вы для них не объект. Но не рассматривать лицо или лица. Мальчика с ними сразу не будет. Могут, и скорее всего, забрав деньги, минут пятнадцать «помариновать». Потом либо укажут, куда пройти за мальчиком, либо — где он находится за пределами кладбища, такой вариант реальней. В любом случае спокойно возвращаться на главную аллею к нам.
Передаю ей целлофановый прозрачный пакет, в нем меньший черного цвета с денежной пачкой — тоже для их наблюдателей, и не сомневаюсь почти, что на кладбище они будут.
Вон уже поворот.
Но до него сообщение: «кавказ» едет вслед за нами.
На вопросительный Лешин взгляд я просто пожимаю плечами.
Не могут же они вести ребенка? Его не было в доме, а если бы прятали на участке, собака наверняка бы нашла.
Подъезжаем.
Я поглядываю на припаркованные вдоль дороги машины — не исключено, ребенок в одной из них.
Машин довольно много.
Леша подъезжает совсем к воротам, паркуется где не положено, но мы на «милицейской».
Вылезаем… но как-то до странного медленно.
И тяжеловато дышится.
У меня вылетает само собой:
— Ну-ка собрались! Всё будет нормально!
И почему-то действует.
Принимаемся энергично вышагивать, главная аллея начинается почти от ворот.
Я по ней хожу несколько раз в год, посещая могилу матери, — обстановка вполне знакомая. В будний день, как сегодня, тут не многолюдно. Могилы уходят вправо и влево от аллеи в глубину, оттуда нас хорошо видно, а нам крутить головами не следует. Вон кто-то на своем участке сметает листья, а там двое рабочих мастерят что-то с оградой. Надеть спецовку и выглядеть как местная служба преступники тоже могут. Впрочем, что толку занимать себя подобными мыслями.
Приближаемся к повороту на первую боковую аллею, которая не наша, потому что наша последняя третья.
Чего этот «кавказ» прёт за нами?
Теперь мы отключены от связи — противная во всём беспомощность.
Идем молча.
Лешка, докурив сигарету, снова вытащил пачку.
При быстрой ходьбе не холодно, и даже — бзить — девушка спускает до половины молнию на теплой куртке.
Пока не холодно.
Шальная мысль — и чего я не взял из дома фляжечку коньяка?
И вообще дурак — мог под форменную рубашку тонкий свитерок надеть, у меня ведь есть такой подходящий.
Вторая налево аллея.
Проходим мимо.
И вон там, впереди, уже поворот на третью.
— Держитесь очень спокойно.
Мне только шумно выдохнули в ответ.
А еще дальше третьей аллеи невысокий забор из бетонных плит и обширный лесной массив.
«Ищи-свищи», — проносится у меня в голове.
Хотя преступник с деньгами может просто пройти задними рядами, выйти почти у ворот… вот какой-то в рабочей спецовке с ведром — почему не один из них?
Доходим до нужного поворота и останавливаемся.
Девушка достает маршрутную бумажку для дальнейшего своего движения, в другой руке у нее пакет, слова от нас — «нормально», «спокойно»…
Мы смотрим тревожно ей вслед.
Лешка с ненужной силой затаптывает в канавку окурок.
— Перестрелять бы их всех! Дим, ну куда страна катится?
Страна тогда действительно катилась, и с устрашающим ускорением. Страна, впрочем, лишь территория с определенным материально-вещественным составом, а главное — люди. И можно теперь определенно сказать: исторически выведенный тип человека в России оказался нежизнеспособным — стал вместе с социализмом разваливаться и приобретать облик чего-то пещерно-доисторического. А потому что это совершенно искусственно выведенный тип. Взглянем теперь попристальнее на первое его слагаемое.
Аскетизм, точнее — такая интенция, наблюдалась у разных народов во все времена: культивировалась в античном мире у стоиков, активно присутствовала в буддизме, в иудаизме формировала протестное движение караимов, сопровождала жизнь многих монашеских орденов Западной Европы…
Конечно же, и в России.
Однако с важной своей особенностью — индивидуальным отличием.
В других странах аскетизм принимался во имя чего-то превосходящего материальные выгоды. В России — из-за отсутствия выбора, без спроса самого человека, принуждаемого к аскетизму внешними обстоятельствами. В средневековой Европе (во все века свободной для перемещений) активные люди могли идти в различные ремесленные цеха и достигать уровня как минимум подмастерья (зажиточного и уважаемого), в наемные армии, в морскую службу — особенно развивавшуюся с XV века, чуть позже могли уехать в различные по всему миру колонии, а остававшиеся «на своей земле» не жили под страхом смерти от голода. И феодальный порядок в Европе никогда не доводил низшее сословие до абсолютного бесправия, как крепостное право в России. Причем в уже не средневековой России бесправие это опускалось до совершенного издевательства. 1848 г. — по многим государствам Европы прокатываются революции, люди борются за гражданское равноправие, свободу печати; парламентаризм закладывается в государственные основы; а личная и имущественная неприкосновенность, равная для всех судебно-законодательная защищенность давно уже действуют и не стоят на революционной повестке дня. Задачи европейских революций 1848 г. через 70 лет будет решать (и не решит) наша Февральская революция. А пока этот год отмечен у нас публикациями «Записок охотника» Ивана Сергеевича Тургенева — страшных записок, которые давно никто не читает, и только школьники осиливают из них первый рассказ «Хорь и Калиныч»; он, как раз, самый из всех безобидный. Но дальше скверно, и каждый новый сюжет добавляет серые и черные краски. Хотя сам Тургенев обличительных задач в «Записках» не ставил — просто описал увиденное во время летне-осеннего охотничьего сезона. Прочитайте хотя бы рассказ «Бурмистр» — хватит для общего понимания: изувер-староста мордует деревню, «нелюбимым» делает жизнь хуже ада, но помещика он вполне устраивает, и когда двое крестьян на коленях (!) просят у того полагающегося заступничества — отвечает им кулаком в лицо. А в Европе про «крестьянину в морду» вообще не знали, вернее — знали, что за это запросто попадешь под суд; личной принадлежности тоже не существовало и христианин христианином не торговал.
Что же в сухом остатке?
Европейский аскетизм направлен к свету, и ничего общего не имеет с нашим, окруженным враждебной тьмой, которую человек, естественно, ненавидит. Такое «враждебное» часто доходит до всего, что не он сам. Отсюда и ощущение родины как злой или незаботливой мачехи — так отчего же, при удобном случае, у нее из сумки денег не утащить? И отношение друг к другу растет из того же корня: любой незнакомец для нас — то самое «внешнее», согласно инстинкту ничего хорошего не сулящее.
Сказанное, разумеется, может быть критично воспринято, и на передний план у кого-то выдут другие соображения. Это естественно, только с одной оговоркой: здесь нет переднего плана, но обязательно присутствуют другие грани, на некоторые мы дальше укажем. Не сразу, впрочем. Есенинские слова «лицом к лицу лица не увидать» прекрасно подходят к историческому «сегодня», однако на слишком значительном временном удалении возникает другая угроза, от которой остерегает французская поговорка «истина в деталях». Выйти из положения, поэтому, можно лишь признав, что исторический результат неотделим от порождающего его процесса, следовательно, нет другого способа, как выныривать в том или ином его времени, схватывать что-то новое взглядом, наращивая, таким образом, фактический ряд. В этом смысле историческую картину нельзя до конца закончить — как нельзя наныряться в море, если человек всерьез приступил к этим занятиям, — тем не менее, можно решить важнейшую (особенно для нас, русских) задачу: понять, кто мы сейчас, потому что «сейчас» — исторический путь, который привел в данную точку, точнее — какой-то его последний важный кусочек, поэтому надо правильно выбрать «кусочек», а не начинать с Владимира-красно-солнышко.
Что-то в таком роде мы и попытаемся сделать. Да будут с нами Небесные силы, — как говорят итальянцы по всякому поводу и без повода.
— Леха, эта третья подряд сигарета.
— Я на нервной почве… и холодно! Думал четвертинку взять, да вдруг, ты заругаешь.
— Ну прямо…
Нам холодно, да, Лешка, морщась, закуривает, я опять смотрю на часы — с момента ее ухода прошло шестнадцать минут.
Всё утро было в моем распоряжении, и не сообразить даже — маленький термос с собой прихватить. Как будто наступившие холода — новость…
Лешка, вон, правильно говорит, что самая паршивая за последние несколько лет осень.