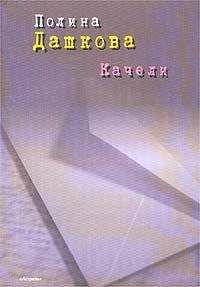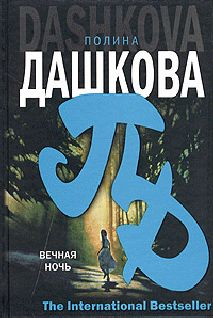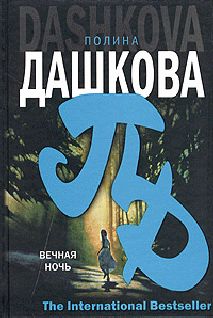Полина Дашкова - Небо над бездной
– Но может быть, это все-таки таблички сонорхов?
– Исключено. Храм построили на месте древнейшего шамбальского кладбища. Таблички, безусловно, созданы шамбалами, там текст, который сонорхи просто не могли написать, он полностью противоречит всем их доктринам, их мировоззрению! Я вам уже рассказывала, кому они поклонялись.
– Как же вы сумели прочитать текст?
– Среди стариков-шамбалов остались те, кто знает древний алфавит. А вообще, ничего этого я вам не говорила. Если Герман Ефремович узнает, вышибет меня отсюда под зад коленкой.
И вдруг погас свет. Гул изумления побежал по залу. Рядом послышались голоса:
– Неполадки с электричеством, из-за сильного ветра, сейчас исправят.
– Нет, я уверена, так и было задумано, сейчас начнется что-нибудь интересное.
– Герман не может без сюрпризов.
– Тихо, тихо, смотрите!
В кромешной тьме по полу поползли белесые полосы светящегося тумана. Призрачные змейки стелились под ногами, между столами, взвивались к потолку, обретали форму человеческих силуэтов. Вместе с ними нарастали гулкие, какие-то подземные звуки. Вой, стоны, всхлипы, невнятное бормотание.
Конечно, было понятно, что туманные фигуры – фокусы иллюминации, а звуки раздаются из динамиков, но все равно стало жутко. Казалось, призраки поднимаются из глубины промерзшей степной земли, вьются, заглядывают в глаза черными дырами своих глазниц.
Люди за столами сначала притихли, потом начали негромко переговариваться.
– Класс! Прямо как настоящие!
– Ой, блин, да он смотрит, смотрит на меня! Эй, ты, чего уставился?
– Не нравишься ты ему.
– Пошел вон! Улетай, урод!
Что-то звякнуло, видно, отмахиваясь от призрака, кто-то сшиб со стола бокал. Затем прозвучал истерический женский смех, и мужской голос испуганно произнес:
– Киска, что с тобой? Успокойся, это спецэффекты.
Соня почувствовала, как по щеке ее скользнуло что-то холодное, омерзительно рыхлое. Пожилая дама за соседним столиком вскрикнула. Невидимая Киска продолжала громко икать, то ли смеялась, то ли рыдала.
Но тут все закончилось. Вспыхнул свет. Заиграла бодрая музыка. На эстраде опять стоял Герман Ефремович и широко, белозубо улыбался.
– А, испугались, родные мои? Адреналинчик – штука полезная! Ха-ха! Знаете, что это было? Сейчас я вам скажу! Слушайте! Близится торжественный миг. Я предупреждал, что ваши заветные желания сбудутся. Ну, признайтесь, вы ведь не верите? И правильно делаете. Все надо подвергать сомнению. Тем и отличается умный от дурака, что не верит сразу. Тут среди нас дураков нет, ни одного. И как люди умные, мы все понимаем, что исполнение желаний дело не простое. Нужны помощники. Вот я их пригласил.
– Он пьян? – прошептала Орлик.
– Нет. Он не пьет спиртного, никогда, – шепотом ответил Дима.
– Духи степных шаманов помогут осуществить желания, – весело продолжал Тамерланов, – я позвал их, и они пришли. Вы видели их, они видели вас. А теперь всем приятного аппетита! Кушайте на здоровье, мои родные! Как я вас всех люблю, сказать не могу!
* * *Берлин, 1922
Федор и доктор Крафт обедали в маленьком французском ресторане на Фридрихштрассе. Это был последний вечер. Завтра утром Федору предстояло возвращаться в Москву. Пять ящиков с лекарствами и медикаментами для кремлевской аптеки, собранные и упакованные под его присмотром, были доставлены из фармацевтической фирмы на вокзал и ждали в специальной камере хранения для дипломатических грузов. Отдельно, в чемодане, лежала небольшая жестяная коробка с лекарствами, которые доктор Крафт передал для Ленина. Эликсиры, пилюли, порошки изготовлены были самим доктором, к склянкам и коробкам Эрни прикрепил ярлыки, на них расписал, что, как и когда давать вождю.
Курс лечения был направлен лишь на то, чтобы максимально облегчить страдания больного, продлить дееспособность. Надежды на полное выздоровление нет, левое полушарие мозга практически мертво. Восстановить погибшие клетки никакими медицинскими манипуляциями не удастся.
Договорились, что по возвращении Федор потребует, чтобы ему предоставили возможность в любой момент связаться с Эрни по телеграфу для консультаций. Вместе они разработали систему условных фраз, маленький шифр, на тот случай, если понадобится передать что-то Данилову.
– Ленин спросит, почему вы отказываетесь приехать, – сказал Федор.
Он задавал этот вопрос Эрни уже несколько раз, прямо или косвенно, однако ответа пока не получил. Теперь решился повторить попытку и неожиданно услышал:
– В трагедии России есть определенная доля моей вины. Не хочу видеть результат. Тяжело. Стыдно. Что я мог сделать? Ничего. Вот сейчас тут, в Германии, назревает еще одна трагедия. Даже если я возьму рупор, залезу на Бранденбургские ворота и стану орать во всю глотку: «Адольф Гитлер – исчадье ада», он потопит в крови и позоре нашу родину, превратит нас в тупых убийц! Кто меня услышит? Это особенная, тонкая, изощренная пытка, когда знаешь и ничего не можешь изменить. Ульянову передадите мои извинения. Я занят по горло, скверно себя чувствую. Профессор Свешников замечательный врач, так что в моем приезде нет необходимости.
Письмо Михаилу Владимировичу Эрни так и не написал.
– Вы все поняли. Просто расскажите ему своими словами. Советовать ничего не хочу, он сам должен принять решение. Если его дети и внук окажутся здесь, я сделаю для них все, что в моих силах.
Официант принес кофе. Федор мысленно перебирал вопросы, которые не успел задать Эрни. Их накопилось множество, а времени почти не осталось. Следовало выбрать самое важное. Он уже открыл рот, чтобы напомнить о разговоре в поезде, о вещественных доказательствах. Но тут доктор достал из кармана пожелтевший листок, сложенный вчетверо, и протянул Федору.
Листок был мелко исписан по-русски, острым косым почерком, лиловыми чернилами.
«Учитель!
Я выполнил все, в точности как вы приказали. Деньги и лесть. Вы правы. И то и другое действует безотказно, причем именно в такой очередности. Пока не было денег, Ленио оставался глух к моим посланиям, хотя я очень старался. При всякой возможности отправлял ему признания в любви и верности до гроба. Называл гением и горным орлом, устно и письменно восторгался им, шумно отстаивал его позицию по всем вопросам, яростно топтал его оппонентов. Однажды в разговоре с кем-то он вскользь упомянул меня, назвав «пламенным колхидцем», но имени моего так и не вспомнил. «Пламенный колхидец». Вот все, что я получил в награду за свои титанические усилия.
Взор его впервые устремился на меня, лишь когда я предложил приличную сумму. Я разъяснил способ, каким намерен эту сумму добыть, но предупредил, что будут большие человеческие жертвы. Невинные жертвы. Случайные прохожие, дети, женщины. Он легко, с улыбочкой, пропустил это замечание мимо ушей. Я еще раз убедился в абсолютной эффективности ваших методик.
Деньги были добыты, «пламенный колхидец» материализовался для него в Кобу, который добыл денег. Фамилию, имя наш гений пока запомнить не удосужился, но Коба теперь существует. Ленио снизошел, соблаговолил обратить на меня свое державное внимание. Мои восторги перестали быть гласом вопиющего в пустыне. Я продолжаю изливать елей, льщу без устали. Со стороны это выглядит смешно, меня величают его левой ногой, его грузинским двойником. Но он воспринимает все всерьез. Ему нравится. Он верит.
Учитель! Обстоятельства вынуждают меня обратиться к Вам с личной просьбой. Моя жена серьезно захворала. Лечение требует денег. Не могу ли я воспользоваться скромной суммой?»
Федор трижды перечитал текст. Не обнаружил ни подписи, ни даты. Заметил, что в последнем маленьком абзаце почерк изменился, как будто рука писавшего немного дрожала.
Он отложил мятый листок дешевой почтовой бумаги и взглянул на доктора Крафта.
– Кто такой Учитель?
– Господин Хот, – спокойно ответил доктор, – письмо адресовано ему.
– Как оно к вам попало?
– Хот иногда просил меня оценить неврологический статус своих подопечных по почерку.
– Вы разве читаете по-русски?
– Не читаю, – доктор улыбнулся, – это не обязательно. Я бы вряд ли взялся анализировать по рукописным иероглифам душевное состояние китайца или японца. Но кириллица мне знакома. Хот показывал мне пару десятков таких писем. Я все вернул, а вот это случайно сохранилось.
– Вам кто-нибудь его перевел?
– Нет. Но в четырнадцатом году, когда я обнаружил его в своих бумагах, не поленился, взял русско-немецкий словарь, долго корпел, и теперь содержание мне известно. Письмо написано в первых числах ноября 1907 года. Речь идет о знаменитом ограблении в Тифлисе. Июнь 1907-го. Это было дерзкое жестокое нападение на фургон, перевозивший огромную сумму денег в отделение государственного казначейства. В центре города, среди бела дня. Погибло много случайных прохожих. Вы обратили внимание на последний абзац?