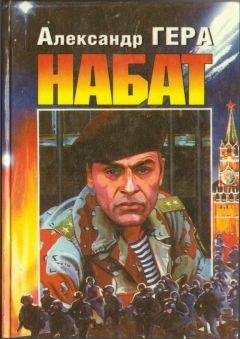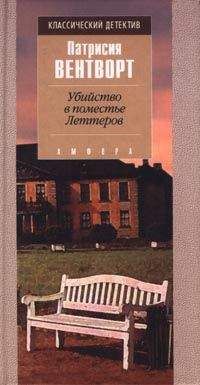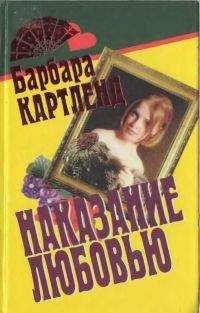Николай Псурцев - Голодные прираки
Я не удивился происходящему.
Один раз со мной случилось уже такое. На войне.
Я остановил время. Свое время.
Тогда, как и сейчас, я был быстр и сноровист. А все, кто находился вокруг меня, двигались в десятки раз медленней меня.
Тогда меня хотели убить.
А сегодня меня хотели трахнуть… Что, собственно, одно и то же.
И мой организм остановил время. – Он спасал себя. Он очень хотел жить.
Он очень хотел жить. Он действительно этого очень хотел. Но тогда на войне я еще не понял этого. А теперь понял. Но еще не осознал. Я счастливо рассмеялся, радуясь своему превосходству. Теперь мне надо было развязать веревку на руках, – пока все те, кто едва шевелился, продолжали едва шевелиться, суки. Оглядевшись, я нашел на столике длинные ножницы. Сев на стул, я зажал их меж коленями и принялся перетирать ими веревку. К тому времени, как Ника чуть отклеила язычок от верхней губы, мои руки уже были свободны. – Моя одежда мятым комком валялась в. углу комнаты. Я выдернул из комка свои брюки. Из кармана выпали часы. Я поднял их, взглянул на "циферблат. Часы стояли… Хотя нет, вот дрогнула секундная стрелка… Ну да, черт, я же забыл, что я остановил время. Я привычно надел часы на руку. И в тот же миг услышал истошный крик Бойницкой, и грохот падающего тела раненого в плечо телохранителя, и мат первого крепкоспинного, того самого, со спущенными штанами. Я заметил, что крепкоспинный уже достал из кармана пиджака нож и пытается встать. Я, не целясь, навскидку, спокойно (как в тире на тренировке) выстрелил крепкоспинному в член. Фонтанной струей с шипеньем хлестнула вверх черная кровь. Телохранитель повалился на спину и не издал больше ни звука. А Бойницкая тем временем продолжала орать. Высоко, громко. Пугаясь собственного крика. И оттого крича еще громче, еще выше и еще испуганней. Я перешагнул кастрированного телохранителя и подошел к Бойницкой. С ходу ударил ее рукояткой пистолета по переносице, потом посильнее по лбу. Бойницкая умолкла, изумленная. Я резко развернул ее к себе спиной и с оттяжкой саданул ее пистолетом по затылку. Она сложилась пополам. Я сорвал с нее брюки, колготки, трусы. После чего повернул к себе лицо Ники и сказал; «Смотри. Она обыкновенная женщина. И не более того. Обыкновенная. Не красивая и не уродливая. Самая что ни на есть обычная. И я сделаю с ней сейчас то, что мужчина обыкновенно и делает с обыкновенной женщиной…»
Я вошел в Бойницкую при вздохе. Резко и мощно. Женщина вскрикнула. А затем завизжала. А затем задергалась передо мной змеисто в конвульсиях, задыхаясь, а потом прокричала шепотом: «Давай, еще, еще, не останавливайся! Я умоляю тебя!» – «Вот видишь, – я не отводил глаз от Ники. – Она всего лишь обыкновенная, никем не любимая женщина» Обыкновенная женщина, однако, выделывала необыкновенные вещи. Она крошила зубами спинку стула, на которую опиралась, и, выплевывая деревяшки и куски материи, истерично ругалась по-немецки: «Шайзе! Доннерветтер, тойфель, тойфель!», а пальцами, одновременно отдирала от близкой стены обои и штукатурку, свирепо просверливала вертящимися, как дрели, кулаками в ней дырки и, органично переходя на русский, пела в их пустоту: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». Она страдала, негодовала, прощалась с мамой я с папой, и с неродившейся сестренкой, икала, сморкалась, весело хохотала и умоляла кого-то по-французски томно; «Шерше ля фам, шерше ля фам вы нам, а мы вам, вам дам, а вам не дам, ам…» Она меняла головы и фигуры, И одежды. Я видел перед собой то Никсона, то Марию Стюарт, то Шекспира, то Жаклин Кеннеди, то бронекожего единорога, то толстенького лохматого человечечка, вкусно пахнущего разложившимся мертвецом, то барона Унгерна, то Флобера, то мадам Бовари, то Маргариту Наваррскую, то Александру Колонтай, то Катеньку Фурцсву, то Адам Перин, то Дантеса, облик которого плавно перетесал в облик Лермонтова и обратно, то Бенджамина Франклина, то Мопассана, то какого-то корявенького, то какую-то кривоногенькую, то кого-то еще, не имеющего пола и не молодого и не старого, голого и не одетого, который шептал горячо: «Прислушайтесь! Прислушайтесь! Прислушайтесь!…»
Ника неожиданно лизнула мне лицо. Как собака. Слюняво и шершаво. «Да», – сказал я. И она лизнула еще. «Да», – сказал я. И Ника, слабо кривясь, и тихонько воя, прижалась ко мне, тесно и тепло, и сказала мне на ухо: «Я никогда не видела тебя. Кто ты?»
И именно тогда Бойницкая, просунув руки в дырку, ухватилась за стену и рванула стену на себя. И закричала, погибая. И я закричал. И Ника закричала. Таившееся все это время во мне пламя полыхнуло из меня – в пепле сжигая Бойницкую. Стена качнулась и рухнула на нас. Мы лопались, как надутые лягушки, И нам было хорошо…
Продолжая прижимать к себе Нику, часто и хрипло дыша, сухим языком облизывая сухие губы, я отступил от Бойницкой. «Скажи мне свое имя, скажи. Только скажи, и я отдам тебе все, что ты пожелаешь», – шелестела мне в ухо Ника. Я слегка отстранился от нее и взглянул ей в глаза. Слишком много кокаина она нанюхалась. Бойницкая оказалась щедрее, чем я думал. Кайф у Ники держался стойко. Но, судя по появившейся резкости движений, должен был скоро выдохнуться. Бойницкая с тихим стуком упала на колени. Голый зад ее потно блеснул в свете ламп. Бойницкая стонала, как профессиональная плакальщица, мотала головой из стороны в сторону. Я поцеловал Нику. Она с готовностью ответила. Провела знающими пальцами по моей мокрой груди, коснулась сосков, куснула мое ухо и неожиданно ясно произнесла: «Убей ее…»
Да, конечно, я должен был убить Бойницкую. Я чувствовал это. Я чувствовал, что должен был убить Бойницкую. И сама Бойницкая догадывалась, что сейчас должно было произойти. Она не вставала с колен. Она продолжала сидеть на полу. И когда она спросила: «Что теперь?» я понял, что она обо всем догадывается. Я резко вытянул руку и приставил ствол пистолета к затылку Бойницкой. «Вот так, – прошептала Ника, завороженно глядя на пистолет. – А теперь нажимай…» Палец мой дрогнул, но спуск не нажал. Я нервно рассмеялся, облизнул губы, сосредоточился. И снова, мать мою, не смог нажать на курок. «Сейчас, сейчас, – скоро проговорил я, дернув головой в сторону Ники. – Спуск непривычный. Тяжелый. Сейчас…» Но к этому мгновению я уже знал, что курок сегодня больше не нажму.
Как ни пытался, но я не смог вызвать в себе прежнюю, еще несколько минут назад бушующую во мне ненависть к этой женщине. И более того, к моему удивлению, у меня вообще пропало чувство мести. А оно ведь должно было быть, должно. Ведь Бойницкая только что издевалась надо мной и унижала меня. Она издевалась и над Никой. И унижала ее. А я люблю себя. А я люблю Нику. И еще я сказал себе, что эта женщина просто опасна для нашего с Никой дальнейшего существования. И если оставить ее сейчас в живых, она снова захочет завладеть Никой и уничтожить меня. Но ничего, кроме легкой усмешки, у меня мои слова не вызвали. Почему? Ведь я же ко всему прочему был твердо уверен, что такие, как Бойницкая, просто вообще не имеют право на существование на этой земле. Они лишние. Они бесполезные. Они вредные. Они не созидают. Они разрушают. Да, конечно, наверное, они необходимы жизни, как необходимы природе ядовитые растения и кровожадные животные, и пусть они живут, конечно. Пусть. Но только до тех пор, пока они не начинают разрушать что-то непосредственно связанное с тобой или самого себя. И вот тогда их необходимо убрать, смести, ликвидировать, убить. Чтобы не тратилась потом на борьбу с ними так необходимая для созидания энергия…
Попытки уговорить себя были бесполезны. Палец мертво замер на спусковом крючке…
Мне не нравится ее лицо, говорил я себе. Мне не нравится ее одежда. Мне не нравится ее манера говорить. Меня бесило в конце концов, когда я слышал, что она говорила. Претенциозная и амбициозная дрянь!
Да и Бог мой, неужели так трудно убить человека?! Плохого человека!
Не трудно.
Я убивал и не раз.
Но вот теперь что-то случилось со мной…
Я опустил пистолет. Отступил на несколько шагов назад. Повернулся к своей одежде. Оделся не спеша. Сунул пистолет за пояс. Накинул на сидящую на краешке гримерного столика Нику свой смокинг, взял ее за плечо, сказал: «Пошли» – «Убей ее», – недобро глядя мне в лицо выговорила Ника. «Я только что занимался с ней любовью, – тихо сказал я. – Я только что кончил в нее. Я только что получил удовольствие. Это правда, я его получил. И пусть я хотел унизить ее. Разозлить ее… Но я занимался с ней любовью. И все мои чувства, способные заставить меня пустить ей пулю в затылок, сейчас утихли, растаяли, и исчезли».
Произнося эти слова, я осознал вдруг, что говорю самую настоящую правду. Это действительно так. Наконец найдя объяснение, я негромко рассмеялся и попытался сформулировать это объяснение одной фразой: «Оргазм несет мир».
Ночью я слышал, как разговаривали рыбы в озере. Я не понимал, конечно, о чем они ведут речь, но шепот их доносился до моего слуха ясно и отчетливо! «Ввввааааахххх-ххшшшшшуууууууииииииии… Фффффффххххххххоооооо-фыыыы. Аааааааммммммаааааа… Бббббблллллюююююю». Вот так они разговаривали. Вот так. И чем больше я их слушал, тем тверже убеждался в том, что если задаться целью и выкроить время, может быть, месяц, может быть, год, может быть, десять лет, то непременно можно выучить язык, на котором разговаривают рыбы в озере. Другое дело, стоит ли задаваться такой целью. Наверное, не стоит. Но если все же задаться, то язык озерных рыб можно выучить – это факт.