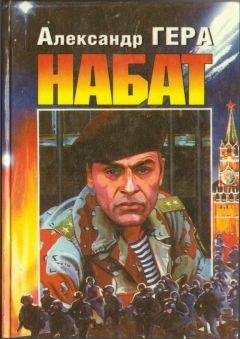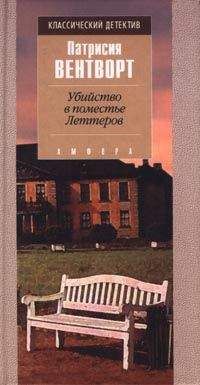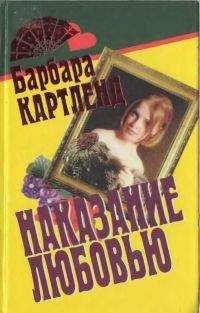Николай Псурцев - Голодные прираки
Все, кто смотрел на меня, продолжали смотреть на меня, и, продолжая смотреть на меня, незаметно для меня двинулись, непонятно зачем, на меня – плыли, посылая кверху пузыри, отпихивались от воды руками, и ногами.
Вот схватили меня за одежду, за волосы, за руки, за ноги, потянули вверх высоко, высоко… Проплывающий над нами теперь проплывал под нами, сочувственно смотрел нам вслед, ненавидяще провожая нас взглядом.
Я хотел крикнуть ему: «Помоги, помоги! Не хочу я туда, куда плыву сейчас! Здесь мое место! С тобой, под тобой, над тобой. Здесь мне хорошо, здесь я счастлив!» А сам не кричу, только пускаю пузыри, один за другим, звучно, смачно, отчаянно, как в последний раз, и вверх, все вверх плыву, не сопротивляясь ни непротивленцу Толстому, ни красавцу Лермонтову, ни бесполой Монро, ни дистрофику Наполеону, ни жадноруким и жадноногим моим женам, ни детишкам-говноедам, потому как знаю откуда-то, что рано мне еще кричать и о помощи взывать и что не надо мне оставаться тут, как бы ни было здесь хорошо, как бы ни было здесь удовлетворительно и даже, может быть, все-таки счастливо.
Я плыл, отдаваясь воле всего, что имело волю, с каждым мгновением ощущая, как становится мне плохо, – тоскливо, тошно, крикливо, слезливо… Вот уже совсем немного осталось, едва-едва, слегка-слегка, конечно же, чуть-чуть, последний этот самый, он трудный самый – самый – гребок.
Пихнула меня «группа сопровождения» что есть силы под самый зад. И взвился я ракетой вверх с бешеной скоростью, рассекая воду. Успел-таки тех, кто толкнул меня, взглядом поймать, голову опустив. И с удивлением обнаружил, что смотрели они мне вслед с завистью. Все, кроме жен, которые весело махали мне всеми руками и ногами и посылали, смеясь, мне водные поцелуи, и говорили что-то мне в подошвы, судя по движениям губ, что-то типа: «До встречи, любимый! Бай, бай!» Что-то типа.
Я с пенным шумом вылетел из воды и тотчас открыл глаза.
Прежде всего я увидел Бойницкую, суку, сидящую на краешке стола, на который совсем недавно еще опиралась руками полуголая, душистая Ника. Бойницкая курила и, щурясь, брезгливо разглядывала меня. Я проследил ее взгляд и понял, что она смотрит мне на то самое место, где у меня имеется один поразительно значимый в моей жизни орган, мать ее! Я опустил голову и с искренним удивлением увидел, что я совершенно голый, и орган этот мой замечательный полностью открыт этой суке на ее сучье обозрение. Я машинально хотел было прикрыть член руками, но сделать этого опять-таки, к недоумению своему, не сумел. Руки мои были связаны. И вот только после того, как я сообразил, что руки мои связаны, я решил, что теперь пора бы и обратить внимание, в каком вообще положении я нахожусь. Вообще-то я, как я все-таки догадливо догадался, сидел на стуле, а не стоял, как мне показалось, когда я только открыл глаза, хотя, может быть, я еще тогда, когда открыл глаза, а потом меня посадили на стул, а может быть, я всегда сидел на стуле, что скорее всего, потому что, как же я мог стоять, да еще со связанными за спиной руками, когда я находился без сознания… Уууф, грамотно размышляю!
«Ну хорошо, – Бойницкая мужским движением затушила окурок в пепельнице (резко и сильно втерла его в керамику). – Иди сюда», – сказала кому-то.
Я повернул голову влево, вправо. Затылок откликнулся тупой болью. Оттолкнувшись от затылка, боль ударила по вискам, по лбу, по переносице. Мне захотелось сморщиться и вскрикнуть, но я лишь дернул щекой и моргнул глазом.
Слева и справа от меня стояли крепкоспинные, целых трос, расслабленные, бесстрастные.
Ника вышла откуда-то из-за моей спины. Она была уже одета.
Ника подошла к Бойницкой и встала рядом.
Посмотрела на меня, усмехнулась криво, повернулась к Бойницкой, сказала: «Ну?…» Бойницкая обняла ее за плечи, кивнула в мою сторону, спросила: «И это тебе нравилось? И с этим ты хотела трахаться? Я понимаю – это временное затмение, аффект, вызванный неадекватной ситуацией, произошедшей сегодня, но… Все же надо быть более разборчивой и более внимательной, моя дорогая. Я сейчас тебе хочу кое-что показать и кое о чем рассказать. Я сделаю это для того чтобы в следующий раз у тебя не возникало соблазна иметь дело с подобным ему. Смотри и слушай…»
Не переставая лениво ухмыляться, Ника посмотрела на меня чуть сонными, излишне влажными глазами – на мой член посмотрела, на мой живот, на мою грудь, на мою шею, на мое лицо, мимо моих глаз, на мой лоб, на мои волосы, и выше посмотрела, и выше, и смотрела, смотрела, пока не застряла взглядом на потолке.
Я хотел спросить Нику, почему она так странно смотрит на меня, почему она так странно смотрит мимо меня. И не смог. Потому что обнаружил в своем рту вонючую тряпку – кляп, мать его!
Бойницкая нежно погладила Нику по волосам и затем слегка надавила на затылок Ники, заставив таким образом Нику снова смотреть на меня.
«Смотри и слушай, – мягко потребовала Бойницкая. – Прежде всего обрати внимание на его ступни. Они большие. Они грубые. Они гораздо больше и грубее, чем твои и чем мои».
«Вот сучара! – подумал я. – Все не так! При моем стовосьмидесятивосьмисантиметровом росте я ношу обувь всего лишь сорок третьего размера. И ступня моя предельно мала и незабываемо изящна в сравнении с моим, конечно, крупным телом. Вот сучара!»
«И они покрыты волосами, – будто рассказывая страшную детскую сказку, продолжала Бойницкая. – Жесткими упрямыми и колючими волосами покрыты и пальцы. Даже на мизинце мы видим волосы. На том же мизинце, посмотри, какой растет ноготь? Толстый, корявый, плохо, неровно остриженный. И хорошо бы такой мизинец был на одной ноге. Но ведь и на второй растет точно такой же. А теперь смотри выше. Все его ноги, от ступни до колена и от колена до бедра, покрывают все те же противные упругие волосы. И еще. Ноги его жесткие и мускулистые. Разве может вызвать желание четко, как на анатомической картинке, очерченный мускул? Линии тела должны быть мягкими, нежными, округленными, как, например, у тебя или у меня. Смотри, смотри, а где ты видишь у него линию талии? Его бедра не отделяются от его грудины. А если ты заглянешь ему за спину и посмотришь на то место, на котором он сидит, ты увидишь совершенно не обольстительные белые, сухие ягодицы, поросшие все теми же мерзкими неизводимыми ничем и никогда волосами. Над ложбинкой, разделяющей его зад на две половины, ты увидишь затем бугристую, потную, очень твердую даже на вид спину. Но не надо заглядывать ему за спину. Много омерзительного можно найти и со стороны его лица. Смотри, смотри, разве это соски, вон те маленькие, коричневые пупырышки, что виднеются среди все тех же злосчастных, зловонных, колючих волос? Разве можно эти неаппетитные соски сравнить с тем, что есть у тебя или у меня?… А обрати внимание на кость, что торчит у него из шеи. Гляди, как она шумно елозит изнутри его кожи, будто кто-то сидящий внутри этого недочеловека водит по его шее своим костяным пальцем… А кто там сидит внутри него, кто, кто? Ответь мне, кто?…» Ника запрокинула назад голову, как еще минуту назад, когда смотрела в потолок, и засмеялась громко, и сказала, отсмеявшисъ, но все еще вздрагивая плечами, губами: «Там сидит настоящий, истинный он. Скользкий, вонючий, слепой…»
«Умница, – похвалила ее Бойницкая, – умница…» «Что с тобой, Ника? – кричал я беззвучно. – Где ты, Ника? Я не вижу тебя, Ника? Та, что стоит передо мной, это не ты, Ника! Или-, может быть, все же это ты – такая, какая ты есть на самом деле?!»
«Посмотри, как вздулись жилы и жилки на его шее, – говорила Бойицкая. – Посмотри, как они извиваются. Они похожи на червей, бьющихся в предсмертной агонии. Стоит надавить на них, и они брызнут гноем, черным и удушливым. А разве может когда-либо возникнуть желание, чтобы хоть единожды, хоть едва-едва, хоть совсем ненадолго до тебя дотронулся этот рот, эти губы, сухие и бледные? Разве могут вызвать страсть едва видимые из темных глазниц жестокие и злые глаза, – теперь Бойницкая почти кричала. Или не почти. Трясла перед собой длинным тяжелым указательным пальцем. – И разве можно, смотри, смотри, получать удовольствие от этого никчемного, одним своим видом вызывающего тошноту, гадюкообразного отростка, что болтается у него между ног? Ответь мне, можно? Можно? – Бойницкая ухватила Нику за кофту на груди и встряхнула Нику, что есть силы: – Можно?!» – «Нет! – вскрикнула Ника, закрыв глаза и покрутив головой, – Нет! Нет! Конечно же Я вижу. Я слышу… Я знаю. Я не могу понять сейчас, как я могла еще несколько минут назад целовать этот смердящий кусок мяса, непромытый водой и мылом, необлагороженный вниманием и лаской, укутанный в грубые и некрасивые одежды, решительный и сильный, опасный и непредсказуемый… Я не понимаю, как я могла увидеть любовь там, где ее нет. Там, в этом человеке есть только воля, движение, пренебрежение равно как к поражению, так и к победе, свободная походка, быстрый и ироничный взгляд, потухшая сигарета в уголке губ. То есть все-все, что так противно нашим с тобой простым и ясным натурам. Я не понимаю, как мог разбудить мое воображение и возбудить мою плоть этот словно литой и всегда готовый к атаке розовый мускул, этот бесцеремонный, вечно лезущий, куда его не просят и в общем-то никчемный и совершенно лишний шлангообразный отросток… Я сейчас не могу взять в толк, как я могла ласкать его и целовать его… Я знаю, что, если я стану снова целовать его, то меня стошнит… Я знаю. Я могу доказать. Могу» – Ника провела сверкнувшим тысячью бликов языком, по горячим губам, вздрогнула ноздрями, шагнула ко мне мягко и встала на одно колено, медленно и липко сжимая и разжимая свои веки.