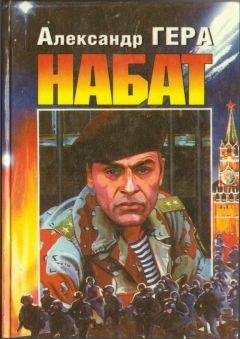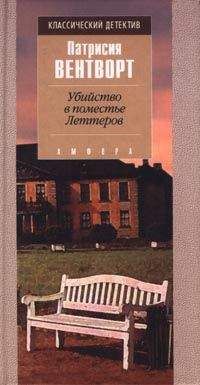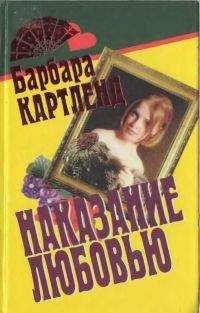Николай Псурцев - Голодные прираки
Днем рыбий шепот заглушали не только крики птиц, завыванье ветра, шелест листьев, фырканье лося, рык кабана, писк лисицы, стук дятла, цоканье белки, скрип древесных стволов, кряхтенье пней, звяканье озерной ряби, треск сверчков, жужжание комаров, дыхание паучка, топот муравья, скрежет песчинок, но и рев пролетающего самолета, монотонный и беспрерывный гул людских голосов и мыслей, доносящихся со всех концов земли, да и немалый шум самого дневного света.
Я заснул под утро. И спал очень крепко. И без снов. Проснулся радостным. И, подумав, решил: наверное, оттого, что ночью слышал, как разговаривают рыбы в озере. Я помню, что их шепот успокаивал меня. Глушил тревогу. Помогал избавиться от мыслей – от всех мыслей сразу.
Я встал с постели. Машинально размялся. В охотку и очень энергично. Умылся холодной водой – из-под крана в углу комнаты. Растерся грубым полотенцем – до жара. С удовольствием оделся. Джинсы, кроссовки, майка, теплый свитер. Бриться не стал. Ну его!
Отпер дверь. Вышел на улицу.
Меж мокрых сосен синела тихая вода. Пахло размоченной хвоей, грибами и прибрежными водорослями.
Было хорошо. И это правда. Много лет прошло с тех пор, как мне было так хорошо. В детстве, наверное, только. Или нет. Не только. Когда я был студентом, мне тоже было хорошо. Но тогда для того имелись причины. Прежде всего, тогда я был молод, и осознавал, что все, ВСЕ у меня впереди. (Так оно и было.) И от ощущения перспективы счастливо теплело под сердцем, и хотелось всего, чего можно было только хотеть. И, безусловно, верилось, что желания эти исполнятся. (Не без помощи, конечно же, меня самого, не без труда, не без пота, не без одержимости и страсти, но и не без помощи судьбы также.) А именно оттого мне было хорошо и счастливо.
Сейчас иное дело. Сейчас у меня нет причин для счастливого и радостного ощущения жизни. Нет. И тем не менее я ощущаю эту радость. Я нисколько не сочиняю и не фантазирую, и не внушаю себе этого. Я действительно ощущаю радость. И между прочим именно потому, что сейчас у меня нет причин для радости, ни одной, а она вопреки всему владеет мной, именно потому нынешнее мое состояние было гораздо мне дороже, чем то прежнее – в детстве и юности.
Второй день уже я жил на турбазе нашего института в Куранове, в ста тридцати километрах от Москвы. База работала только летом. И поэтому сейчас здесь никто не отдыхал. Кроме меня, конечно.
А еще здесь жил Петр Петрович Мальчиков, мужчина шестидесяти шести годов, сторож, администратор, зимний директор, мой добрый приятель, отец погибшего на войне офицера-десантника, отменный стрелок, пьяница и классный автомеханик.
Месяца три назад, еще летом, я пригнал ему сюда свою старенькую машину, ту самую, что подарил мне префект. Я просил Мальчикова подновить кузов и перебрать двигатель. Машина была готова через месяц. Петрович звонил мне, бил телеграммы. А я все не ехал. Дело в том, что в те дни меня совершенно не интересовала машина. В те дни я учился играть на фортепьяно. Меня, человека, обладавшего минимальным музыкальным слухом, на протяжении всей предыдущей моей жизни не покидало искреннее желание научиться сочинять музыку. Я испытывал страстное стремление творить новую, совсем новую, никогда еще не бывалую последовательность нот, ритмов и тактов. Но стремление то мое мною же наглухо всегда и подавлялось, потому как я никогда, говоря честно, не видел в этом своем стремлении целесообразной необходимости и необходимой целесообразности. Да и вправду, зачем? Развлечения ради только. А не много ли развлечений, говорил я себе? А где дело, настоящее дело? То, ради которого ты умрешь?…
А вот этим летом я услышал «Весну священную» Стравинского и больше не смог сдерживать себя. За недорого (а она за дорого и не соглашалась) я нанял старую мамину подругу, бывшую преподавательницу Гнесинского училища. И занимался с ней восемь месяцев подряд. Каждый день. Я научился записывать ноты. Я научился играть тихие колыбельные и легкие вальсы. Я понял, что музыка – это мир гораздо больший и великий, чем он мне представился до этого. Но я так и не смог за это время ничего сочинить. То есть вообще ничего. Ни одной крохотной фразы. От огорчения и злости я поширялся неделю «в легкую» и, спрыгнув с иглы, дал себе слово заниматься в этой жизни только тем, что мне дается легко, без напряжения и в удовольствие, и только тем, что хорошо получается. Главное – тем, что хорошо получается. Это очень важно, когда хорошо получается. Я должен заниматься только тем, что у меня хорошо получается. Лучше, чем что-либо другое. И лучше, чем у многих других…
«А куда ж тебе деваться, – сказал мне пьяный Петрович, когда я приехал в Кураново. – Куда? Рано или поздно лучшие из нас уходят от людей. Ты помнишь? Заратустра. Иисус. Будда. Я. А теперь вот и ты. А как же». Я верил, что он действительно считает меня одним из лучших. Больше трех лет назад мы в первый раз выпили с ним по стакану. И по второму. И по третьему. После седьмого он упал. А я после седьмого полетел поболтать к Богу. Разговор был длинный и утомительный. Утром я понял, что человечество ждет от меня истины. Не вставая с постели, я выблевал эту истину на пол. Всю до конца. Всю без остатка. «Ты был там?» – спросил меня Петр Мальчиков, после того как мы похмелились. «Там, – я поднял глаза к небу. – Как ты догадался?» – «По твоему лицу. По твоему голосу. По тому, как ты держишься сейчас. По твоему спокойствию. По твоему волнению. Все, кто летал поболтать с Господи, все похожи!» – «Ты тоже летал?» – усмехнулся я, «А как же!» – удивился Петр Мальчиков…«Был бы девкой, я бы отдался бы тебе, – сказал мне Петр Мальчиков, когда я еще через год заехал к нему на турбазу. В то утро он бил неожиданно трезв, чисто выбрит и свежо одет. – Был бы настоящим мужиком, – продолжал Петр, – я бы с удовольствием трахнул бы тебя. Был бы таким же, как и ты, человеком, я бы тебя убил, был бы завистником, я бы плеснул тебе в лицо кислоты, был бы Господом, я подарил бы тебе любовь всего человечества. Но я ни то, ни другое и ни пятое. И поэтому я просто стану уважать тебя. Уважать тебя, и все. И ты теперь всегда, в любое время, когда захочешь, можешь спросить меня: «ты меня уважаешь?» И я тебя отвечу, я тебя уважаю!»
Петр был пьяницей. Пропойцей. Алкоголиком. В его сортире постоянно пахло спиртом. Петр признавался мне, что мочится водкой, а его дерьмо удивительно похоже на загустевший портвейн.
К смерти он шагал в одиночку. Сын убит, жена умерла, младший брат повесился в привокзальном туалете. Ему, Петру, нечего было терять. А значит, он никого и ничего не боялся. А значит, ему незачем было кому-либо льстить. Например, мне.
Я верил, что он действительно считает меня одним из лучших.
Он был, пожалуй, единственным человеком, которому я хоть в чем-то верил,
…На берегу я отыскал лодку. Доплыв почти до середины озера, я остановился. Прислушался. И заплакал, услышав ТИШИНУ.
После того как мне надоело плакать, я рассмеялся и поднял лицо к небу, зажмурившись. Солнце быстро высушило влагу на моих щеках. И я опять стал прежним. Таким, каким сел в лодку, которую отыскал на берегу.
Да нет. Конечно же, я стал другим. Немножко другим.
Жадно и часто вдыхая воду, лес, траву, землю, облака, пролетающих птиц, мелководных рыб, головастиков, тритонов, мошкару и необычайно нежный и бархатный воздух, я неожиданно сказал себе, что в этой жизни самое важное – это жизнь. Я часто слышал эти слова, но никогда не понимал их. А теперь начал понимать. Жизнь и только Жизнь. А все остальное совершенно не стоит того, чтобы растрачивать на него самое важное, что у меня есть, – Жизнь.
Я бросил весла, лег на дно лодки и закрыл глаза. Я решил проверить, действительно ли я понял, что ничего нет в жизни важнее самой жизни. Если я на самом деле это понял, сказал я себе, то первым воспоминанием, когда я закрою глаза, будет воспоминание об очень счастливом времени в моей жизни. (Конечно же, я знал, что все придумки мои о первом пришедшем в голову воспоминании глупы и нелепы, но тем не менее решил попробовать. А почему бы и нет, в конце концов!)
…Пациентов в кабинете у стоматолога было двое. Я и еще девица на соседнем кресле. Я очень стеснялся, что буду кричать, когда доктор начнет сверлить мне больной зуб. А я непременно стану кричать, потому что я всегда кричал, когда мне лечили зубы. И кричал не потому, что не мог терпеть боль, я мог терпеть боль (лукавлю, конечно, я не знал тогда, могу ли я терпеть настоящую боль, мне было тогда всего двадцать пять лет, на войну я уйду только через полгода) – мне вырезали гланды и аденоиды, мне запихивали гастроскоп в желудок, меня били хулиганы, сорвавшейся пилой я однажды пропилил себе руку до кости, – но стоматологическое сверло доставляло мне боль, которая выходила за пределы моего терпения. Я знал, что буду кричать. Я боялся, что буду кричать.
Я понимал, что именно потому, что я боюсь и стесняюсь кричать, я стану кричать еще сильнее, чем когда-либо. Так оно и случилось. Да и более того…