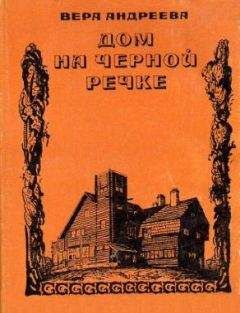Юрий Гончаров - Бардадым – король черной масти
На Симферопольском вокзале было сутолочно и шумно. Только что пришел поезд с севера. Пестрый людской поток выливался на привокзальную площадь, осаждая такси и «левые» машины. У шоферов были свои правила – они брали пассажиров с выбором, только в те пункты, которые им были удобны. Над площадью, чаруя приезжих музыкой названий, тем, что эти названия обещали, на разные голоса звучало и перекатывалось: «На Алушту! На Алушту! Кто на Алушту?», «Беру на Ялту!», «Гурзуф! Гурзуф!»
Костя сел на длинную скамью в зале ожидания, взглянул на часы: до поезда еще минут сорок. Билет он взял в Ялте, беспокоиться было не о чем, оставалось только терпеливо ждать.
Рядом с ним, устроившись на широком сиденье лавки, как на возу, – ногами вперед, опершись на плетеную корзину с фруктами, а другою рукой придерживая еще одну корзину, дремала пожилая, просто одетая женщина, очевидно, крымская колхозница. Тренируя свою наблюдательность, Костя попытался определить, куда эта женщина едет. Продавать фрукты? Не похоже, две корзины – это не товар, выгоды везти их на дальнее расстояние нет никакой… Вероятнее – куда-нибудь к сыну или к дочери, к внукам, а фрукты – это гостинцы…
По другую сторону от Кости, тайком, чтоб не заметил вокзальный дежурный, собирая шелуху в кулачки, грызла орехи тройка все время о чем-то перешептывавшихся и прыскавших смехом девчат. Еще одна женщина, монотонно напевая, покачивала на коленях спящего ребенка.
Напротив, нагромоздив на полу груду рюкзаков с притороченными к ним плавательными ластами и подводными ружьями, скучали, листая журналы, возвращающиеся с практики студенты-геологи – обугленные, обветренные, обросшие бородками ребята в техасских линялых джинсах и спортивных кедах.
Монотонное пение женщины, качавшей ребенка, ровный, несильный, какой-то бормочущий шум зала нагоняли вялость и лень.
Вытянув ноги, привалившись к диванной спинке, Костя сидел, ни о чем определенном не думая, почти с пустотою внутри себя. Он все-таки здорово устал… Отмахать такие расстояния, столько впечатлений… Он чувствовал, что даже сделался как-то старше, хотя и затруднился бы ответить, что же именно в нем прибавилось, что и как повзрослело…
Но как ни велики были в нем его притупленность и усталость, мысли в нем все же текли. Настойчиво пробиваясь из-под меняющихся образов и картин, перед ним все пыталась повториться сцена на алупкинском причале… Какой-то тормоз был в Косте настороже, и каждый раз приостанавливал это движение его памяти. Когда-нибудь потом он снова все припомнит и все обдумает, но только не сейчас, когда все еще в нем так свежо и так до боли остро…
Гораздо приятней было представлять себе что-нибудь другое. Например, фосфорические глаза Клавдия Митрофаныча или его самого, маленького, тощенького, в тюрбанчике из полотенца, возле объемистых неуклюжих шкафов с его странными и удивительными коллекциями… Или вспоминать ялтинские утра – как он купался в море, а собаки подходили и обнюхивали оставленную им на пляже одежду… Или как потом, мокроволосый, взбодренный, радующийся солнечному свету, розовеющим вдалеке вершинам, он взбирался назад, в гору, и среди скопления крыш и темной зелени деревьев каждый раз старался отыскать глазами чеховский домик, прилепившийся на крутом ауткинском откосе, и неизменно испытывал необъяснимое волнение, когда находил его белый, рафинадный кубик…
Студенты-геологи напомнили Косте о том, что скоро конец и его практике, он снова вернется к занятиям, а там недалеко и выпускные экзамены, новые пути-дороги, и как знать, встретятся ли они когда еще с Максимом Петровичем?.. Славный старик, простой и душевный. Только слишком уж порою в своем деле упрямый, слишком уж держится за однажды затверженное… Ему бы побольше гибкости, побольше фантазии, поменьше к ней недоверия. Следователю без догадки нельзя, догадка для него что крылья для птицы. А Максим Петрович «воспарять» не любит. Он, если уж искать сравнений, вроде, что ли, крота: всё ощупкой, ощупкой…
Тут мысли Кости повернулись к артамоновским тетрадям и надолго на них утвердились. Ему пришло в голову, что вот минуло уже больше двадцати лет – живы ли сейчас те, кого описал Артамонов, кто был с ним на войне? А если живы – то что сделали с ними эти двадцать с лишним лет, как изменились эти люди внешне, как теперь выглядят? Например, Уголков… Ему чертовски везло. Самые рискованные вещи удавались ему великолепно. Даже взрыв того железнодорожного моста, который никто не мог подорвать. Уголков пустил его на воздух вместе с воинским эшелоном… Из всех переделок он выходил целым и невредимым, как будто был не подвластен смерти, накрепко от нее застрахован. Первым из партизан отряда он получил орден Красного Знамени, а потом, в сорок третьем, ему дали и Героя… В Белорусских лесах, двадцать с лишком лет назад, он был совсем мальчишкой: невеликого роста, сухощав, с черной прядкой надо лбом. Если выпадало время – его любимым занятием было погрузиться в древнерусские летописи в растрепанной книжке, которую он где-то подобрал и, чрезвычайно этой книгой дорожа, постоянно таскал с собою в полевой сумке… Где он сейчас? Какая у него профессия? Учитель? Он ведь учился в педагогическом перед призывом в армию…
Повесть Артамонова оборвана, осталась без конца, и нет в ней послевоенных судеб его товарищей, друзей, знакомых…
Где-то, наверно, если уцелел, дождался завершения войны, живет и Часовщиков. Тогда ему было за тридцать. Значит, сейчас – под шестьдесят. Наверное, сед, мучат старые раны, уже пенсионер… Саранцев остался в лагере, не рискнул присоединиться к товарищам, когда Артамонов сколачивал для побега группу. Потом Артамонов его уже не встречал…
А вот с Петровым ему пришлось встретиться. И как! В разгар боя с немецкими карателями, которые хотели окружить и уничтожить партизан. Фашисты долго к этому готовились, долго накапливали силы. И поначалу взяли над партизанами верх: загнали их в болото, откуда не было выхода, обложили со всех сторон и стали сжимать свое смертельное кольцо. Каратели, вероятно, уже торжествовали победу, но партизаны отчаянным усилием смяли немецкую цепь и вырвались из кольца. Вот тут-то, во главе партизанского клина продираясь сквозь топкий трясинный, лес, под пулями, хлеставшими навстречу, из-за каждого почти дерева, из-за каждого куста, Артамонов натолкнулся на Петрова. Был он в немецкой форме и уже с какими-то нашивками за отличия, выглядел как самый настоящий гитлеровский солдат, обычный фриц, но Артамонов узнал его, ибо расстояние было совсем невелико, шагов десять, не более, и лицо Петрова было совсем ясно видно. И Петров узнал Артамонова. Что-то растерянное мелькнуло в нем, он точно бы струсил и стушевался, но только на миг. В руках его был карабин, он поднял его и выстрелил в Артамонова. Он целился в голову, но от волнения промахнулся, и пуля пробила Артамонову правое плечо. Артамонов выронил автомат. Петров, пятясь, поспешно лязгнул затвором, вскинул карабин снова, но рядом с Артамоновым в руке Уголкова хлопнул пистолет, и Петров, выпустив винтовку, схватился обеими руками за лоб. Пальцы его вмиг покраснели от крови. Повернувшись, он побежал прочь, петляя между деревьями. Уголков послал ему вслед еще одну пулю, но, видно, не попал. Преследовать же было некогда.
Потом, после боя, Артамонов сказал Уголкову:
– Ты разглядел, кто это был? Наш Петров!
– Да ну? Вот гад! – выругался Уголков. – Жалко, что не уложил на месте!
Обомшелые от сырости стволы, навалы гнилых веток, предательская, хлюпающая под ногами, зыбкая, как кисель, почва… Один неверный шаг – и человек в трясинной жиже, откуда уже не выбраться самому, – только если помогут товарищи… Костя поежился, представляя себе этот страшный, исхлестанный, иссеченный пулями лес… Какой леденящей жутью отдавались в сердцах его вечный сумрак, враждующий с солнцем, светом неба, черно-зеленые провалы гнилых зловонных топей, костяное пощелкивание пуль о мшистую кору древесных стволов…
Где он теперь, этот Петров?
Может быть, и выжил. Мерзавцы удачливы. Где-то ходит, каким-то воздухом дышит… Осталось ли у него заикание – то, от контузии миной? Оно могло и пройти. Но вот шрам на лбу, от пули Уголкова, остался наверняка. Как несмываемая, до могилы, мета за предательство, за черную измену…
Вдруг Косте точно закупорило дыхание.
– Вот оно что… – сказал он про себя, тихо, пораженно, и встал, выпрямленный какою-то постороннею силой.
– Вот оно что! – воскликнул он в голос, с расширенными в пространство глазами, судорожным усилием воли пытаясь удержать блеснувшую в мозгу вспышку, короткую и стремительную, как молния, и уже ускользающую, уходящую в темноту, вместе со всем тем, что она на краткий миг высветила.
Тетка, дремавшая на корзинах с фруктами, очнулась от его возгласа, шарахнулась испуганно в сторону, инстинктивно схватясь за корзины руками.