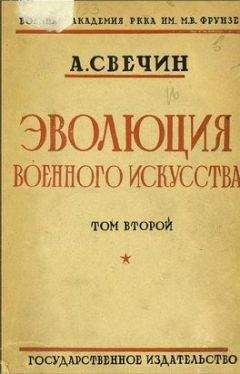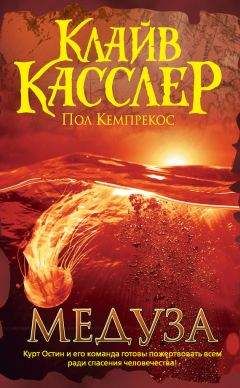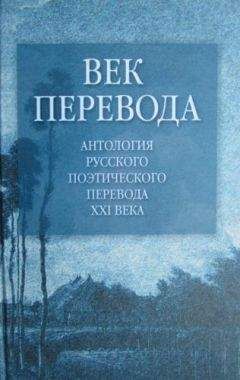Светлана Климова - Ангельский концерт
Общность негативного опыта нас и сблизила. В следующие четверть часа Константин Романович на одном дыхании выложил все, что с ним случилось накануне.
Взяли его в двух шагах от дома. Именно «взяли»: он неторопливо возвращался к себе, когда у бордюра притормозил заляпанный грязью серый «опель», откуда выбрался невысокий блондин располагающей наружности и обратился к Галчинскому с вопросом, как проехать на улицу Гарибальди. Пока профессор обдумывал кратчайший маршрут, из машины появились еще двое, зашли со спины и зажали его «в клещи», как он выразился. Иными словами — подхватили под локти и, пользуясь тотальным физическим превосходством, затолкали на заднее сиденье. Блондин рысью вернулся за руль, и «опель» рванул с места.
О сопротивлении не могло быть и речи — Константин Романович сидел, намертво зажатый между двумя крепкими бычками невыразительной внешности, которые на все его попытки выяснить, куда и зачем его везут, отвечали многозначительным молчанием и воротили морды. Завязывать глаза профессору или натягивать ему на голову мешок, как это сплошь и рядом делается в кино, троица не сочла необходимым.
С полчаса «опель» кружил по городу, потом замелькали новостройки Северного района. За окружной поток транспорта разредился, машина резко набрала скорость и устремилась по одной из второстепенных дорог, которая — Галчинский знал — вела к водохранилищу.
Мобильный у него отобрали сразу. Малый, сидевший справа, ловко вскрыл корпус, подковырнул чип-карту, приспустил дверное стекло и щелчком отправил ее на дорогу. Мертвую «Моторолу» швырнули на колени владельцу.
Только когда водитель свернул с асфальта на проселок, проскочил с ходу деревеньку с ничего не говорящим Галчинскому названием и за изумрудным горбом озимого поля раскрылся дубовый лес в бронзовой ржавчине, Константин Романович по-настоящему испугался. В голове засуетились, путаясь, панические мысли, среди которых не было ни одной толковой. Он лихорадочно искал причину того, что с ним случилось, — и не находил.
Наконец «опель» нырнул в мелколесье, накренился, а затем, прыгая и переваливаясь, проехал еще метров триста по заросшей волчьей ягодой лесной дороге. Ветви орешника свисали так низко, что временами казалось, будто машина таранит глухую чащу.
Дорога оборвалась небольшой прогалиной. Водитель заглушил двигатель, оглянулся и скомандовал: «На выход!» Первым выскочил сидевший справа бычок в пестрой спортивной куртке с логотипом «Lotto». Константин Романович нехотя последовал за ним, но как только его легкие, не по сезону туфли коснулись влажного лиственного покрова, пронизанного там и сям бледными стеблями трав, профессора сбили с ног.
Мягкая фетровая шляпа, купленная в Вене, трепеща, полетела в кусты. Галчинский рухнул ничком, и уже лежачему ему нанесли несколько жестоких ударов в область грудной клетки, от которых у Константина Романовича пресеклось дыхание, а сердце забултыхалось, как подыхающая лягушка. Полыхнула такая боль, что на мгновение все вокруг превратилось в черно-зеленый негатив. При этом никто так и не произнес ни слова, будто главной задачей этих молодых парней было доставить профессора именно сюда, в пронизанную великолепным светом переменчивого осеннего дня дубраву, и без всяких разговоров вышибить из него дух.
Обессиленно лежа на животе и чувствуя, что больше не в силах сделать хотя бы один-единственный вдох, а остатки воздуха в сплющенных легких вот-вот иссякнут, он с какой-то особой, почти запредельной четкостью увидел лес. Ракурс был необычный — так, наверное, видит мир шлепнувшийся на бегу годовалый ребенок за секунду перед тем, как зареветь белугой. Крутая каша дубовых крон шевелилась где-то на периферии поля зрения. Прошлогодний и свежий опад переливался всеми оттенками серого, коричневого и перламутрового с редкими вкраплениями занесенных ветром багровых последышей осины, словно старинное шелковое покрывало. В метре от лица Галчинского покачивалась потревоженная ветка с еще зелеными, бархатистыми с исподу округлыми листьями. Дальше стояла машина — задняя дверь распахнута, а на краю затравевшей колеи, в сантиметре от рубчатого и еще теплого заднего колеса, торчал новорожденный опенок — тугой, с присыпанной младенческой канареечной пыльцой шляпкой в пятак. Было совершенно ясно: как только машина начнет разворачиваться, опенку конец.
Галчинский застонал: удушье сводило бронхи, но тут кто-то рванул его сзади за ворот, ставя на ноги, и одновременно дыхательный центр в мозжечке разблокировался. Воздух оказался сладким и вязким, как сгущенка.
— Раздень его! — скомандовал блондин, и Константин Романович почувствовал, как с него торопливо и грубо срывают плащ, свитер, теплую рубашку из голландского хлопка и обувь.
Холода он поначалу не почувствовал, хотя и было от силы градусов десять-двенадцать. Стоя босиком, Галчинский жадно глотал воздух, пока не нашел взглядом опенок в колее, убедился, что тот пока еще в полном порядке, и вдруг успокоился.
— Если вы будете продолжать в том же духе, — раздельно произнес он, — я просто умру. От холода или от сердечного приступа. Вам ведь не нужен мой труп?
Парни загоготали, а белобрысый спросил:
— Где оно?
— Что? — удивился профессор.
— Сам знаешь, — ответил блондин. — Дай ему еще, Сань!
Стриженый парень, где-то под сотню килограммов накачанного живого веса, придвинулся к Галчинскому.
— Не надо бить, — быстро проговорил Константин Романович, чувствуя спиной и затылком, что ветерок в лесу далеко не июльский. — Объяснитесь!
Из дальнейшего он понял только одно — их интересовало нечто такое, что находилось или находится в данный момент в доме Кокориных, в саду, а может, где-то еще, и он якобы обязан об этом знать. Они не могли толком объяснить, что им нужно, однако были хорошо осведомлены в других областях. Им было известно о больной руке Галчинского, о жизни и смерти Нины и Матвея, о расположении комнат в доме на Браславской и о многом другом.
На то, чтобы убедиться, что Константин Романович не имеет ни малейшего понятия о том, что им требовалось, ушло полчаса. К этому времени профессор окончательно продрог. Холод сковал суставы, зубные протезы выбивали дробь, зато слева в груди, будто туда плеснули крутого кипятку, пульсировала пугающая боль — несильная, но упорная. Вдобавок его привязали запасным ремнем безопасности к небольшому клену, скрутив запястья позади ствола.
До настоящих пыток, правда, дело не дошло; Галчинский подробно и с готовностью отвечал на любые вопросы, лишь бы все это поскорее кончилось, и как только он начинал говорить, белобрысый совал ему под нос серебристый брусок цифрового диктофона.
Постепенно профессор понял, что убивать его все-таки не станут, но и двусторонняя пневмония в его возрасте тоже не бог весть какой подарок.
Трясли его основательно. Как только подтвердилось, что Галчинскому неизвестно главное, они перешли к Павлу и Анне, затем к друзьям и знакомым, в основном Нининым, но когда неожиданно прозвучало имя пастора Шпенера, Константин Романович был ошеломлен.
Выходит, Нина стократно права. Многие годы кто-то упорно и неотвязно приглядывал за жизнью в доме на Браславской, вникал во все подробности и фиксировал события. Затем у него потребовали дюссельдорфский адрес пастора, и тут выяснилось, что терпеливому соглядатаю ничего не известно о том, что Николай Филиппович давным-давно покинул этот суетный мир, а его сын, собиратель гравюр, с которым Галчинский еще некоторое время поддерживал деловые контакты, перебрался в Аргентину и переписка с ним прекратилась.
Следом посыпались вопросы о тех, кто так или иначе мог знать Дитмара Везеля или был связан со старой лютеранской общиной…
На этом месте Константин Романович вдруг запнулся, побагровел и уставился в угол.
— В чем дело? — встревожился я. — Вам нехорошо?
— При чем тут это! — поморщился Галчинский. — Они настаивали, понимаете… а я больше не мог выносить весь этот ужас. Сначала я сказал, что никого нет, все умерли, а если кто и жив, то я о них ничего не ведаю. Тогда блондин лениво протянул: «Ну-у, подождем, спешить нам некуда. Может, кто и воскреснет», а я точно знал, что еще четверть часа на этом собачьем холоде — и со мной все кончено. Мне ничего не оставалось, как назвать имя и адрес… Клянусь, я бы не сделал этого, если бы не мое отчаянное положение!
— Чье это было имя?
— Вам оно наверняка ничего не скажет. Петр Ефимович Интролигатор. Он был близок с отцом Нины.
— Интролигатор! — я едва не свалился со стула. — Он жив?
— Жив и относительно здоров. Сейчас ему девяносто три, он на тринадцать лет моложе Дитмара Везеля. Когда ему исполнилось девяносто, он продал свою квартиру и перебрался за город, в «Эдем».