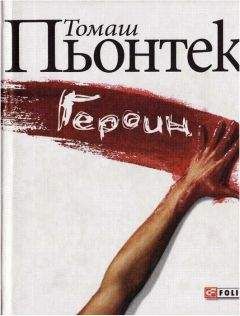Владимир Гоник - Преисподняя
— Предатель! — прорычал стрелявший и взмахнул пистолетом, пытаясь ударить соседа рукояткой по голове.
Свободной рукой молодой альбинос отвел удар, и они сцепились, кружа на месте. После короткой борьбы стрелок изловчился и спустил курок: молодой альбинос дернулся и обмяк, а потом осел к ногам соседа, оттягивая руку, зажатую браслетом.
Бирс и Ключников бросились к стрелку, но добежать не успели: тот выстрелил себе в голову, и это было все на сегодня, полная программа.
Хартман стоял, привалясь к стене, сжимая ладонями бок, из-под пальцев у него сочилась кровь. Он пытался удержаться на ногах, но сил не хватало, и он медленно сползал вдоль стены; Ключников подхватил его и осторожно усадил на пол. Вдвоем они расстегнули одежду, рана сильно кровоточила, Хартман был весь в крови.
— Ах, Стэн, говорили вам: не лезьте сюда! — раздосадованно упрекнул его Бирс, достал индивидуальный пакет и с треском разорвал плотную упаковку.
Они перевязали его, кровь тотчас пропитала повязку, Хартман морщился от боли, но больше от сознания своей вины. Он чувствовал себя виноватым, оттого, что доставил всем столько хлопот, а теперь он становился настоящей обузой и связывал разведчиков по рукам и ногам.
— Придется вам потерпеть, Стэн, — обратился к нему Антон.
— Я потерплю, — с готовностью согласился Хартман. — Извините меня. Не обращайте на меня внимания.
Его смирение выглядело странным. Бирс помнил Хартмана другим победительным, уверенным в себе, а сейчас он кротко принимал чужую волю и послушно следовал ей. Возможно, у него хватало ума понять, что в чужой монастырь не идут со своим уставом и нельзя быть первым всегда и везде; уразумев это, он, к чести своей, укротил себя и одолел свой нрав. Или такова уж природа человека, что для того, чтобы что-то понять и переменить в себе, требуются страдание и боль?
Узнав о Хартмане, Першин выругался:
— Я же приказал его не брать!
— Никто и не брал, — ответил Бирс и объяснил, что произошло.
Першин на чем свет костерил американца, но все же навестил его, когда тот лежал на одеяле, разостланном на полу.
— Я вас предупреждал, Хартман, — хмуро напомнил Першин. — Вот что получается, когда любители не слушают профессионалов. Вы взялись за чужое дело.
— У меня не было другого выхода. А сидеть, сложа руки, я не привык, возразил Хартман.
— Могу сказать лишь одно: вы очень смелый человек. В одиночку, без оружия… Я бы не рискнул.
— Спасибо, сэр, — поблагодарил Хартман, бледный от потери крови.
Фельдшер обнаружил у него проникающее ранение в плевральную полость, требовалась операция, но эвакуировать его возможности пока не было, и он терпеливо ждал, морщась от боли и справляясь время от времени о судьбе Джуди.
Ее искали повсюду. Патрули обошли все помещения, но она исчезла, даже следов ее не могли отыскать.
22
К утру отряд прочесал весь лабиринт и вышел к мощной крепостной стене, армированной стальными балками; техники измерили приборами толщину стены и недоверчиво ахнули: несколько метров стали и железобетона!
Судя по всему, это был главный бункер, который они искали. Похоже, обитатели бункера замуровали себя, ни ворот не было, ни маленькой щели глухая голая бронированная стена.
Да, это был главный бункер альбиносов, святая святых и, как водится устой, надежда и оплот. Первые обитатели бункера оказались здесь как бы в изгнании, в эмиграции; для детей, родившихся под землей, для всего второго поколения, бункер был отечеством, милой родиной, они ее любили и о другой не помышляли.
Першин понимал, что вести с ними переговоры бессмысленно и бесполезно: они не выйдут, не станут объясняться, не смиряться и предпочтут смерть.
Он решил вывести пленников наверх, дать отряду отдых. К этому времени отряд едва держался на ногах, пот ел глаза, все тяжело и хрипло отдувались.
Отряд с трудом отыскал дорогу назад. Разведчики бродили, перебираясь с горизонта на горизонт, петляли, пока не нашли вентиляционный ствол широкую трубу, прорезающую толщу земли снизу вверх. В свете фонаря вмурованная в трубу железная лестница отвесно уходила в сумрачную высоту. И теперь, чтобы подняться наверх, всем предстояло одолеть эту лестницу и эту трубу.
Было раннее утро, сентябрь, бабье лето. Вся трава в обширном московском дворе посреди Чертолья была усыпана разноцветными палыми листьями. Во дворе повсюду росли липы, тополя, клены и рябины, медленно и бесшумно листья скользили вниз, и казалось, в неподвижном воздухе за ними тянутся пестрые извилистые следы.
Кто любит Москву, тот знает сонливую погожую задумчивость московских дворов в разгар бабьего лета и к печали своей или к радости со смирением ждет перемены судьбы, которая в эту пору случается неизбежно.
На краю двора, в густых зарослях жимолости, чубушника и одичалой сирени, поодаль от домов и построек стоял заброшенный каменный сарай. Никто не знал, за какой надобностью он здесь поставлен и какая в нем человечеству нужда. Правда, никто до сих пор не интересовался, что и не мудрено: мало ли у нас настроено, что никому не нужно, однако никому не мешает.
В тишине осеннего утра дверь, которая никогда прежде не открывалась, неожиданно заскрипела, и рослые автоматчики в грязной пятнистой форме стали выводить из сарая измученных бледных людей, которые тут же бессильно опускались на траву, словно после тяжкой пешей дороги. С лихорадочным блеском в глазах пленники затравленно озирались, каждый жадно вдыхал прохладный утренний воздух.
Никогда еще уютный зеленый двор в самом центре Чертолья не собирал столько людей — весь двор заполонили. Изможденные, они молча и неподвижно сидели на траве под деревьями, и разноцветные листья, кружа и взмывая, плыли над ними, как причудливый флот.
Хартман и молодой альбинос лежали в стороне на расстеленных на земле одеялах. Американец время от времени забывался, обессиленный потерей крови, недосыпом, усталостью, альбинос бессонно озирался — вероятно, слишком разительной была перемена: он внимательно обозревал разноцветные осенние деревья, траву, цветы, увитые плющом дома и пристально всматривался в прозрачное высокое небо, где умиротворенно плыли невесомые пушистые облака.
— Как ты? — присел возле него на корточки Бирс.
— Нормально, — сдержанно и односложно ответил альбинос.
— Очень больно?
— Я привык.
— Ты когда-нибудь видел небо?
— Нет.
— Никогда?
— Никогда.
— Нравится?
— Я не знаю. Пусто.
Да, он привык к тесноте, стенам, потолку, ограниченному пространству, даль и простор были для него пустотой, которая существовала вокруг неизвестно зачем.
Бирс подумал, что юноша впервые видит солнце, траву, деревья и прочее, прочее, что люди знают с рождения. И какой же должна быть идея, если вера в нее лишает человека чего-то важного для него, столь же ценного, как и сама жизнь. Впрочем, она и жизни лишает с легкостью, словно это пустяк.
В ожидании машин Бирс размышлял, как разговорить альбиноса, чтобы разузнать что-нибудь о Джуди. Пленника наверняка интересовало, что с ним станет, но он не задал ни одного вопроса, что, впрочем, и понятно было: когда человек обязан лишь выполнять приказ, он не должен задумываться, что его ждет. Там, внизу, они не имели права задумываться о будущем, у них не было будущего, вернее, будущее означало для них новый приказ, и это было все, что их ждало впереди.
— Сейчас тебя отвезут в госпиталь, — наклонился Антон к альбиносу.
— Зачем? — спросил альбинос.
— Тебя там подлечат…
— Чтобы убить? — с прежним равнодушием поинтересовался альбинос.
Изо дня в день им твердили — плен означает смерть, они готовы были к ней, Бирс не замечал в пленнике ни страха, ни тревоги. Тот знал, что его ждет, но сохранял спокойствие перед любой участью, какую уготовила ему судьба.
— Почему убить? — удивился Бирс. — Вылечат, будешь жить.
— Это обман, — убежденно сказал пленник.
— Обман — то, что тебе вбили в голову. Никто не собирается тебя убивать. Ты мне лучше скажи: ты действительно не знаешь, где американка?
— Не знаю, — сказал он после затянувшейся паузы.
Антон отошел от него и медленно брел по двору, размышляя: альбинос несомненно что-то знал, но таился. Бирс увидел в стороне машину сопровождения, дверцы были распахнуты, на переднем сидении сидел Першин и разговаривал по радиотелефону. Антон вдруг подумал, что надо позвонить домой.
Впоследствии он пытался найти причину, но не мог: не было ему ни голоса, ни знамения, просто подумалось, что надо позвонить домой. И все же это не была случайность; вероятно, в пространстве возник сигнал, и Антон его получил.
Першин, как правило, не разрешал никому пользоваться служебным радиотелефоном для частных разговоров — в любой момент могло поступить сообщение, да и вообще нельзя засорять эфир, а кроме того, командир опасался утечки информации.