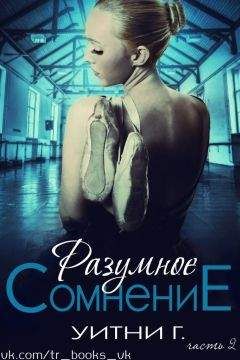Леонид Словин - Победителям не светит ничего (Не оставь меня, надежда)
Вернулась быстро, и тогда начался второй акт драмы.
— Анастасия! — официально и с легкой толикой истеричности провозгласила мать, — Ты думаешь, что делаешь?
— А что я делаю? — последовал не менее нервный вопрос.
— Кого ты привела? Иностранца? Израильтянина?
— Могла бы и не приводить. Я — взрослый человек и решаю сама, что можно и что нельзя.
Отец не вмешивался. Мать смотрела на нее как когда — то в детстве, когда ей казалось, что Настя поступила против всяких правил. И дочь это заело:
— А чем тебе не нравятся израильтяне? — вспыхнула дочь.
Эта была вторая крупная ошибка
— Ты — действительно взрослый человек, но рассуждаешь, как ребенок. Он иностранец, ты забыла?! Что из всего этого получится? Что-нибудь серьезное? Да ни в жизнь! А ведь тебе вот-вот — двадцать семь…
Дочь молчала, и это ее подстегнуло.
— Ты должна думать о себе. Ты — русская, что ты там в этой стране евреев будешь делать? Или, может, он согласится ради тебя бросить свой Израиль?
В голосе матери слышался сарказм.
— Между прочим, чтобы ты знала, мама, у них в Израиле тоже есть конная полиция…
Мать даже руками всплеснула:
— Смотри, куда зашло! Ты о чем говоришь?! Слышишь, отец? «Конная полиция…» А жить как будете? На два дома? Неделю там, неделю здесь? А кто дети у тебя будут? Здесь — евреями или там русскими? Там ведь национальность по считается по матери, а не по отцу…
Все, что говорила мать, было правдой, и наверное, поэтому вызывало такую боль. Ведь сама Анастасия от себя все такого рода вопросы инстинктивно отталкивала. Мать же — вот она логика человека в возрасте под пятьдесят! — все сознательно обнажала и обостряла.
— Один раз ты уже обожглась? Помнишь? Я ведь тебе говорила: «Влюбилась? Не рвись замуж!» Чего в огонь лезла — то? В семье всегда один любит, а другой позволяет, чтобы его любили…
— Ну, ты, мать, все границы перешла! — вмешался до сих пор молчавший отец. — Этак ты далеко приедешь…
Он не на шутку рассердился.
— Уже приехала, — мстительно бросила Анастасия. — Ты-то не знал, что она тебе себя любить позволяла…
И вдруг ее обожгло: а, может, знал и глаза закрывал?..
Сергей Петрович покрылся бураковой лиловостью. Когда через много лет совместной жизни вдруг из подполья памяти на чинают вылезать на свет взаимные счеты и обиды, семья, как корабль, садится на мель. И даже если его удается снять с нее, днище часто оказывается уже протараненным.
В матери эта чисто спортивная жесткость и готовность стоять на своем давала себя иногда чувствовать. Но обычно она как бы жила сама по себе в подкорке, за кулисами, а на сцене — на лице и во всем внешнем ее облике, как мастерски сделанная театральная декорация, играла ровная, спокойная и заботливая улыбка. Только такой характер мог позволить ей много лет сохранять звание абсолютной чемпионки в конном спорте.
Где — то внутри Анастасия была уверена, что спорт не только многое дал матери, но и многого ее лишил. Вначале — легкой беззаботности юности, затем — готовности уступать и прощать. Выскоблил в ней начисто природную ласку, не дал развиться незлому юмору и умиротворенности, наконец, отнял у нее способность дружить. В людях мать всегда почему — то видела не друзей, а соперников.
— Ты всегда делала то, что хотела, — с горечью бросила мать в спину уходящей Анастасии.
Чтобы обрести прежнее душевное равновесие, Анастасии надо было остаться одной. В личной жизни, увы, она чувство вала себя куда менее уверенно, чем в своей собственной профессии…
Пытаясь как-то разобраться в том, что произошло — встре ча с Алексом, размолвка с матерью, — Анастасия снова уткнулась лбом в железную стену выбора: или — или? Неужели нет ничего между тем и этим? Почему вдруг исчезли все оттенки и нюансы? Правда ли и в самом деле, что в семье всегда один любит, а другой позволяет, чтобы его любили?
Доверчивый и уступчивый отец, волевая, целеустремленная и суховатая мать… Интересно, — она изменяла ему?
Ее бы, даже если бы очень захотела, Анастасия не могла представить себе в роли женщины, которой муж наставляет рога…
И вдруг ее обожгло: она знает, что ее так привлекло в Алексе!.. Ласковость безграничная — не забота, нет, — теплота, какой ей всегда так не хватало, и которой даже отец стеснялся, когда рядом находилась мать.
Наверное, это естественно: человек ищет то, чего у него нет.
Мать права во всем, что она сказала. Мало того, — ее прогноз безошибочен, как компьютерный расчет. Почему же тогда эта тщательная обдуманность так отталкивает ее от себя? Вызывает такой внутренний протест и желание поступать вопреки и только вопреки?
Следующий день был субботний, и они не поехали в больницу на Каширку — администрация в этот день отдыхала.
Чернышев не ждал быстрых результатов беседы с бортпроводником, объявил выходной.
Вечером Алекс с Настей снова отправились в дискотеку. Алекс танцевал правильно, но несколько неуклюже. Но даже эта неуклюжесть в движениях трогала ее каким-то непонятным образом. Ее, двадцатисемилетнюю женщину, три года замужем и два с половиной в разводе, — он вновь заставил почувствовать себя девченкой.
Алекс был моложе ее на год и, то казался ей ребенком, то — умудренным опытом, похожим на отца человеком, на которого хотелось положиться. В ее прошлой жизни была страсть, а нежности не было. А в нем была нежность, и не было страсти. И нежность эта сбивала с ног, как хорошая порция алкоголя.
По дороге назад из дискотеки она решала почти гамлетовской неразрешимости проблему: позвать его к себе или не звать?
Они подъехали к ее дому. Часы показывали час ночи. Ей надо было в течение секунды решить: предложить ему выйти из такси или нет? Дверца была уже открыта.
— Хочешь выпить чашку кофе? — спросила она, словно прыгнула с пятого этажа и распласталась, разбив все косточки, на тротуаре.
Он прикрыл глаза и полез из машины.
— Еще бы!
Они вошли в парадную, поднялись на лифте. Ей было безразлично, видит ли их кто-либо из ее соседей. Потом щелкнул замок тяжелой металлической двери, которую она поставила, как только начала жить самостоятельно, и они зашли в ее однокомнатную квартиру.
Со шкафа тотчас прыгнул сиамский кот и потерся головой о ее ноги. Алекс взял его на руки, и эта зверюга не окрысилась, а выгнула шею и позволила себя гладить. Говорят, человек больше всего раскрывается в своем отношении к животным.
Он втянул носом в себя запахи и сказал:
— Твоя квартира пахнет также, как ты: весной, цветущим лугом и лесом…
Она поставила на газ турку с кофе.
— Хочешь есть?
Он не ответил. Рассматривал с интересом ее комнату. Мебель, которую она купила недавно в чешском магазине — на итальянскую не хватило денег. Задержал взгляд на занавесях у балконной двери.
— На, посмотри пока…
Она сунула ему альбом.
На снимках были лошади и люди. Умные большеглазые нервные морды животных на фотографиях сменяли портреты родителей Анастасии и ее самой верхом и пешей, на пьедестале почета, со всеми чемпионскими рагалиями и в милицейской формой, иногда с коллегами, иногда с сестрой…
— Ну вот, все готово. Садись к столу…
— Вот сейчас, ночью?..
Она чувствовала в нем какую-то врожденную деликатность и полное отсутствие позы…
Он не подсаживался поближе и не лез с приставаниями. Самое большое, что он позволил себе — погладил ее по голове. И она закрыла глаза, потому что от этого прикосновения ей стало теплей и уютней.
Она зажгла толстую фигурную свечу, которая вот уже много лет стояла на ее секретере, потушила верхний свет.
Они сидели на софе, перед дессертным столиком на колесиках — ели гренки, которые она быстро приготовила, и пили кофе в маленьких фарфоровых чашечках. Еще Анастасия подала две рюмки со сладким ирландским ликером и отключила телефон. Алекс вырубил свой сотовый еще раньше, войдя в квартиру.
Ужинали молча, порой перебрасываясь короткими фразами.
Алекс нашел в приемнике тихую джазовую мелодию и, облокотившись на стену и скрестив ноги на софе, — ей почему- то не показалось странным то, что он не снял туфель, — плавал где-то чужих и экзотических морях.
Иногда он подтягивал мелодию. Негромко, неназойливо, очень в ритм. Голос у него не был профессиональным, но зато — довольно приятным и очень интимным. Она против воли закрывала глаза, и теплая, расслабляющая волна грела ее, вызывая почти неодолимое желание заплакать. Может, за те обиды, какие выпали на ее долю, а, может, — за возвращенную ей нежность, какой он ее одаривал одним своим присутствием.
Было уже больше двух, когда она постелила себе на софе, а ему на раскладном кресле. Он залез под ледяной душ, обтерся насухо простыней, подошел к ней.
— Ты подарила мне такой вечер, какого у меня, кажется, никогда не было…