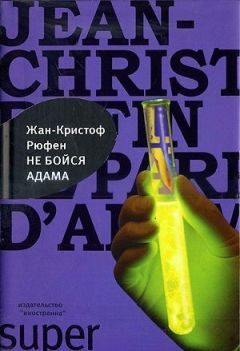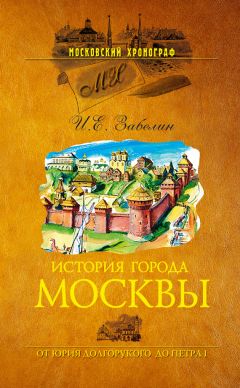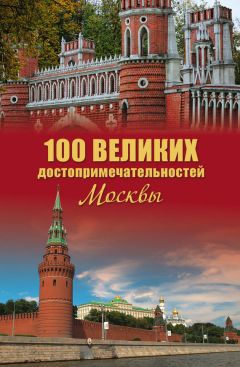Жан-Кристоф Руфин - Не бойся Адама
— Ви журналист, приходить фидеть профессор?
Английский язык женщины походил на пастбищную хижину: нагромождение едва обтесанных камней, уложенных без единой скрепы.
Керри кивнула, и женщина провела ее в дом. Внутри пахло мастикой и растворителем. Если бы каким-то пылинкам и вздумалось пристроиться на этой высоте, у них не было бы никаких шансов обосноваться здесь надолго. Керри проследовала за женщиной в гостиную, где в неверном свете все сверкало и поблескивало. Слабые лучи солнца падали сквозь маленькие окошки на полированное дерево, надраенную медь и картины, и отбрасывали желтые блики. Женщина усадила Керри на диван с многочисленными вышитыми подушками.
— Профессор быстро ходить. Я что могу потавать пить фам.
Керри недоумевала, пытаясь определить, кто эта мужеподобная дама с квадратной челюстью. Супруга профессора или его служанка? То, что она называла его «профессором», ничего не значило в германском мире, где мужья нередко величают жен «мамочкой». Керри не пришлось долго размышлять об этом. Через минуту в комнате появился сам профессор.
Фрич был то, что называется величественным старцем. С первого взгляда никто бы не догадался, что ему вот-вот стукнет девяносто. Ничего удивительного, если он провел весь свой век в этих краях. Говорят, что корсиканская колбаса пропитывается ароматом всех душистых трав, которыми питаются свиньи на острове. Точно так же нечего было и думать прожить вот так почти целый век, не вобрав в себя все самое целебное вплоть до местных пейзажей. Пышная вьющаяся шевелюра Фрича была белее снега, его нос, подбородок и надбровные дуги дыбились словно скалы. Широко открытые прямые и наивные глаза лучились тем голубоватым светом, который приобретает на глубине лед, производя парадоксальное впечатление чего-то теплого и шелковистого.
Любой, кроме Керри, нашел бы профессора весьма привлекательным. Фрич казался воплощением доброты и мудрости, этаким патриархом, которого всякий хотел бы видеть в роли своего дедушки, но Керри с молоком матери впитала инстинктивное недоверие к святошам вообще и лютеранским пасторам в частности. Оно конечно же питалось давними религиозными распрями в Центральной Европе, откуда происходила ее семья. Облик Фрича сразу заставил Керри насторожиться.
— Вы приехали из Нью-Йорка, мадам. Приветствую вас в наших краях. Для меня большая честь, что вы проделали такой путь, чтобы меня повидать.
Судя по его биографии, выуженной из интернета, Фрич три года профессорствовал в университете Чарльстона. Отсюда и его тягучий акцент, когда он говорил по-английски. Немецкая дикция добавляла к его речи монотонность, которой часто отличаются протестантские пасторы, покуда не заговорят о грехе.
— Если вы не против, удобнее поговорить в моем кабинете. Хильда, ты слышала? Мы идем в мой кабинет. Я еще не представил вам моего ангела-хранителя. Хильда необыкновенно преданно заботится обо мне вот уже два года. Ей хватает доброты не позволять мне делать чересчур много глупостей.
Рабочий кабинет Фрича располагался на том же этаже. Он был залит светом, струившимся из больших окон, выходящих на альпийские пастбища. После сумрака гостиной казалось, что они вышли на улицу. Все стены комнаты были уставлены книгами. На большом столе в центре лежали многочисленные папки, тщательно разобранные на стопки.
— Теперь я больше не пишу так много, но стараюсь читать и классифицировать, — сказал Фрич, словно извиняясь за неблаговидный поступок.
Керри села в обитое голубым бархатом кресло, а Фрич за свой письменный стол.
— Слушаю вас, мадам. О чем бы вы хотели поговорить со мной?
Керри избегала встречаться с ним взглядом. Этому научила ее мать: не глядеть в глаза всяких святош, чтобы не попасть под власть их лицемерной чистоты.
— О вас, профессор. Я пишу работу о крупных мыслителях в области экологии и просто не могла не встретиться с вами… Я независимая журналистка и хочу предложить свою статью «Тайм Мэгэзин».
Она протянула профессору визитную карточку. Фрич взял большую лупу с ручкой из рога серны и внимательно рассмотрел визитку.
— Дебора Карнеги. Очень приятно.
Он положил визитку на стол и прикрыл ее лупой.
— Мне казалось, что я уже мало кого интересую в Штатах. Когда-то мои работы считались новаторскими, это правда. Но теперь в этой области Америка впереди всех.
— Ваше влияние как философа чувствуется у большинства известных сегодня экологов. Кроме того, многие из них были вашими учениками.
— Это верно! — воскликнул Фрич.
У него была прелестная простодушная манера реагировать на слова собеседника. Несмотря на изрядный опыт, его отношение к миру казалось окрашенным доброжелательным удивлением, почтительным любопытством и вечным восхищением перед бесконечными поворотами судеб.
— Знаете, чем я больше всего сейчас горжусь? Семинарами, которые проводил, всей этой молодежью, приезжавшей издалека, чтобы поработать со мной и послушать мои советы.
— Как раз это меня и интересует, — поддакнула Керри. — Ваши труды известны мне по публикациям. Я бы хотела услышать воспоминания о вашей преподавательской деятельности и о том, как она менялась со временем.
— О, ничто не доставит мне большего удовольствия!
Можно подумать, Керри преподнесла ему подарок на Рождество. Старческая простота Фрича великолепно сочеталась в нем с младенческой наивностью.
— Когда вы стали вести семинары?
— Сразу после того, как оставил университет Вены, в 1959 году.
— Вы покинули его… по собственному желанию?
— И да, и нет. Там создалась удушливая атмосфера. Не надо забывать, что Австрия была оккупирована союзными войсками до середины пятидесятых. Университет находился под постоянным наблюдением. Немало предметов оказалось тогда под запретом. Я хотел рассуждать о природе, но это считалось в ту пору нацистской темой. Меня вечно попрекали гитлеровским законом об охране зверей…
— Но вы же держались тогда левых взглядов…
— И это меня не спасло, потому что другие, напротив, подозревали меня в симпатиях к коммунистам… Нет, знаете, о том времени лучше и не говорить. Для свободного мыслителя — сущий ад.
Фрич помотал головой, словно стряхивая с себя последние капли грязи. Потом снова блаженно улыбнулся:
— Наконец я сказал себе: сохрани лишь тех, кто умеет слушать. И объявил семинар прямо здесь.
— В этом доме?
— Нет, в старом. Он был попросторнее и поближе к Зальцбургу. В нем имелся большой зал для охотничьих обедов. Именно там мы и собирались.
Старик резво встал и снял со стены фотографию, запечатлевшую старинный дом:
— Вот где это было.
Он с умилением смотрел на снимок.
— С тех пор, как в 1925 году мать подарила мне первый «кодак», я все время снимаю. В моем возрасте это заменяет воспоминания.
— Какие темы вы обсуждали на семинарах?
— Я отталкивался от размышлений о философии науки. Меня как-то поразило одно открытие палеонтологов. В то время они сумели выделить в истории Земли пять периодов регресса животных видов, названные пятью вымираниями. Самый известный — это эпоха, в которую вымерли динозавры. Те же самые ученые пришли к пониманию того — я говорю о середине пятидесятых годов, — что мы входим в шестой период, когда исчезают многочисленные виды растений и животных. Принципиальная разница между ним и всеми предшествующими заключается в том, что тогда всему причиной стали природные феномены, а теперь — род человеческий. Этот вид — наш вид — губит все остальные. Это стало темой моего первого семинара: шесть эпох вымирания. Звучало на манер программ председателя Мао!
Фрич говорил с расстановкой, давая собеседнику время усвоить каждую фразу и каждую мысль.
Керри был хорошо знаком этот упорный, настойчивый и весьма эффективный способ шаг за шагом вдалбливать в головы аудитории свои аргументы. Таким логически выверенным рассуждениям нелегко противостоять, даже если знаешь, что они ведут к ложным выводам. Не чувствуя сродства с немецкой философией и тяжеловесной марксистской риторикой, в семье Керри гораздо больше ценили ироничную игру ума на манер Вольтера или Дидро. Керри и сама познакомилась с их трудами в атмосфере интеллектуальной свободы американских кампусов. Юмор, находчивость и интуиция стали для нее оружием против толстокожей грубости коммунистического мира, из которого она вела род.
— Сегодня, — продолжал профессор, — эти идеи у всех на слуху, но тогда я шел против течения. Размышлять о шестом вымирании значило идти прямиком к критике индивидуализма и данной человеку свободы разрушать мир вокруг себя. Вот немного двусмысленный вывод, который я сформулировал в моей первой книге: «Конечно, декларация прав человека 1789 года освобождает его от произвола и абсолютной власти. Но в то же время она вручает ему абсолютную власть и право творить произвол по отношению ко всем другим существам и природе в целом».