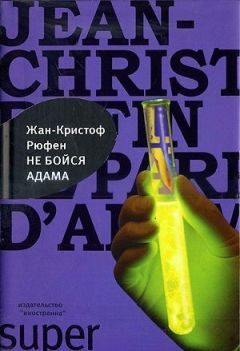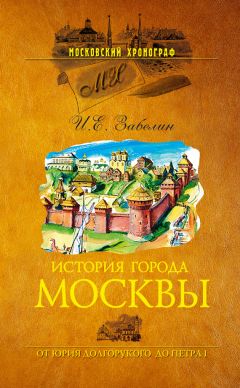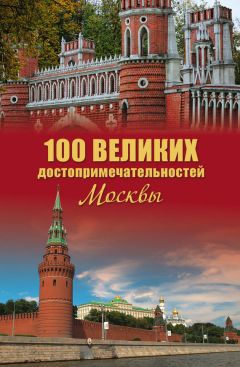Жан-Кристоф Руфин - Не бойся Адама
Быть полицейским в Филадельфии — не очень-то завидная судьба. Спокойствие здесь только внешнее: всем кажется, что жизнь в городе замерла, а на самом деле в Филадельфии не меньше работы, чем в Майами или в Чикаго. К счастью, на склоне лет тут еще можно рассчитывать на несколько теплых местечек. Бертону Хопкинсу в его шестьдесят два досталось одно из самых желанных: он охранял Мемориал.
Работа заключалась в том, чтобы изо дня в день мерить шагами маленькую, засаженную деревьями площадь, где единственными выходящими из ряда вон происшествиями оставались перебранки пожилых дам с их песиками. Бертона часто фотографировали туристы, и иногда ему казалось, что он и сам стал частью исторического достояния страны. Его добродушный вид, нависающий над поясом живот и пугавшие детей усы безошибочно указывали на принадлежность Бертона к давно ушедшим временам, когда полицейских уважали, знали в лицо и даже иной раз любили.
Помимо прочего, он жил совсем недалеко от работы и ходил к Мемориалу пешком, вдыхая уличный воздух и запахи разных времен года. Больше всего он любил весну. В Пенсильвании она запаздывает, но приходит всегда как-то сразу, словно приехавший без предупреждения друг, которого ты и не надеялся уже увидеть.
В его возрасте Бертону больше не приходилось стоять на страже порядка. Он просто задирал нос и всматривался в бледно-голубое небо, видневшееся между стеклянными зданиями. Вот почему он и не заметил в то утро остановившийся возле одного из гаражей «шевроле». Когда Бертон поравнялся с машиной, ее дверца открылась, и на мостовую вышла женщина. Темноволосая, очень стройная, в чуть великоватом для нее пальто, она быстрым шагом приблизилась к старому полицейскому.
— Берт, — тихо позвала она.
Тот обернулся, нахмурив брови и посмотрев на нее одновременно возмущенно и добродушно, как, по его мнению, и полагалось представителю власти.
— Жюльетта!
Берт обхватил девушку за плечи и расцеловал в обе щеки. Потом он настороженно огляделся, боясь, что кто-то заметит его неподобающий чести мундира поступок.
— Каким ветром тебя занесло в Филадельфию?
— Я же писала, что буду у вас проездом. Вы получили письмо?
— Да, и посылку тоже. Я храню ее дома. Ты здесь надолго?
— Уезжаю сегодня вечером.
— Вот как! А Луиза отправилась на всю неделю к тетушке в Балтимор. Ты бы предупредила пораньше.
— Точно не знала, когда выберусь, — пробормотала Жюльетта, опуская глаза.
— Да, ты совсем не меняешься, — сказал Бертон, сдерживая всхлип сожаления о прошлом.
Когда Жюльетта впервые приехала в Филадельфию, ей было всего восемнадцать лет. Она выдержала настоящий бой со своими родителями, не желавшими отпускать ее, и Жюльетте пришлось соглашаться на одно из последних предложений ассоциации, подыскивавшей изучающих английский язык студенток для бесплатной — за стол и жилье — работы в американских семьях. От нее не скрыли, что место не очень завидное: дом вполне заурядного полицейского. Его жена была инвалидом, и честному служаке приходилось одному воспитывать свою внучку Луизу, оставшуюся у него на руках после скандального развода родителей. О своих отношениях со старым полицейским, считавшим теперь Жюльетту своей дочкой, она ни словом и не обмолвилась на допросах в Южной Африке.
Дело в том, что во время своей жизни в Филадельфии она впервые поняла, что такое нежность. Несмотря на пережитые неприятности, десятилетняя Луиза росла очень веселой девочкой. Квакерская строгость, унаследованная Бертоном от матери, уравновешивалась ирландской кровью по отцовской линии. Бертон показал Жюльетте, что такое тепло человеческих отношений и привил вкус к доброму виски, которым полагалось наслаждаться лишь после захода солнца.
— Проводи меня до Мемориала. Все-таки расскажешь мне про свою жизнь.
— Нет, Берт, мне очень жаль. Я обязательно приеду в следующем месяце дня на три-четыре, а теперь спешу на самолет. Сейчас весна, и мой друг-садовник — помнишь, я тебе о нем рассказывала, — ждет меня с семенами. Я просто заскочила их забрать. Увидимся позже.
Бертон нахмурился:
— Если хочешь знать мое мнение, в твоей истории с семенами концы с концами не сходятся.
Жюльетта вздрогнула. Она хотела что-то сказать, но старый полицейский уже подошел к ней и ткнул в нее пальцем:
— За всем этим любовные шашни, ведь верно?
На лице Жюльетты отразилось облегчение, которое Бертон принял за смущение.
— Загнал-таки тебя в угол! В этих делах меня не обманешь. Не для того я тридцать лет прослужил в полиции, чтобы ты меня обдурила! Я любого выведу на чистую воду.
Жюльетта заморгала, как будто ее застали врасплох, и опустила глаза.
— Ну все, ты арестована. Пошли со мной до Мемориала. По дороге во всем сознаешься. Как его зовут?
Бертон взял Жюльетту под руку и чуть отступил в сторону, словно собирался танцевать кадриль.
— Хм, Симон…
— Где он живет?
— В… Вайоминге.
— Теперь я понимаю: в тех краях сезон посадок короток. Холода стоят долго. Поторопись отвезти ему семена.
Вдруг Берт замер на месте и строго посмотрел на Жюльетту.
— Как вспомню, что ради тебя я нарушил федеральный закон…
— Мне правда жаль. Но все эти разговоры о птичьем гриппе, коровьем бешенстве и…
— …и ящуре! Да, понимаю, они просто свихнулись на этом импорте биопродукции.
Потом он взял себя в руки.
— Но ведь это на пользу всем нам. А кроме того, закон есть закон.
Ворча, он снова пошел вперед.
— Знаешь, Этель больше не дома. Пришлось поместить ее клинику. Бываю там каждый вечер. Это всего час автобусом.
Он вздохнул.
— Но дома теперь прислуга, мадам Браун. Позвоню ей, чтобы предупредить о твоем приходе.
Жюльетта обняла его за шею:
— Спасибо, Берт. Вы просто золото.
Старый полицейский поправил свою фуражку и на этот раз не стал озираться по сторонам. Это не преступление, когда тебя целует такая красотка.
— Тебе повезло, что это хмель, — пробурчал он.
— Но не абы какой, Берт, я же объяснила. Это редкий сорт, из которого получается фландрский солод высшего качества. Из него Симон сварит лучшее пиво в Штатах, а я пришлю вам бочонок.
Бертон пожал плечами:
— Можешь поверить, на луковицы тюльпанов я бы так легко не согласился.
Часть четвертая
Глава 1
В долинах Тироля еще лежал снег. Весне никак не удавалось его растопить. На северо-восточных склонах виднелись грязные обледенелые наросты, окруженные уже зеленеющей травой.
Керри взяла напрокат машину в Зальцбурге, что стоило ей полдня погружения в моцартовский кошмар. Вольфганг Амадей присутствовал везде: на шоколадках, в витринах магазинов и на рекламных панно. Она побыстрее сбежала из города на своем «форде-фиеста», но и на брелоке автомобильных ключей обнаружила профиль гения в детстве.
Городок, где жил профессор Фрич, лежал в горах, и от автобана нужно было ехать еще километров двадцать по горному серпантину. Керри миновала множество почти опустевших деревушек с бессмысленно просторными барочными храмами. Прошлое Австрии слишком величественно для страны в ее нынешнем состоянии.
С утра было пасмурно, но по мере того, как Керри приближалась к цели своего путешествия, горизонт светлел. Когда она поднимала глаза к вершинам гор, то ее взору представало замысловатое переплетение облаков и ледников. Наконец, небо совершенно очистилось. Вдали сверкали вершины Кайзергебирге.
Дом профессора Фрича стоял немного в стороне от деревни. Во все стороны от него открывался вид на вершины гор до самых Китцбюля и Санкт-Йохана в Тироле, вздымавшихся из затянутых туманом долин. Коричневые коровы наслаждались свежей травой между ледяными языками на склонах гор. На балконах профессора, как и по всей стране, красовались недавно высаженные неизменные герани с маленькими ярко-красными цветками.
Керри припарковала машину на площадке у дома и прошла по усыпанной гравием дорожке до выступавшего в сад крыльца. Легкий ветерок издалека доносил до нее звук колокольчиков. Могучий сосновый лес, росший на склонах гор, источал запах смолы. Керри пообещала себе, что обязательно как-нибудь повезет ребятишек на несколько дней в Скалистые горы.
Ей не пришлось нажимать на кнопку звонка. Когда Керри поднялась на последнюю ступеньку, дверь открылась. В проходе стояла грузная женщина, одетая в рабочий халат в сиреневый цветочек, и широко улыбалась. Ее пышные светлые волосы были тщательно уложены вокруг головы и так обильно спрыснуты лаком, что производили впечатление стального шлема.
— Ви журналист, приходить фидеть профессор?
Английский язык женщины походил на пастбищную хижину: нагромождение едва обтесанных камней, уложенных без единой скрепы.