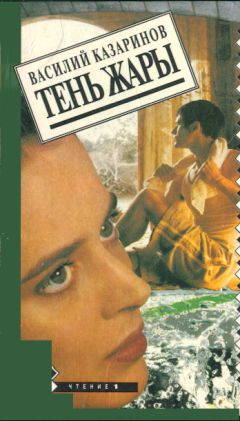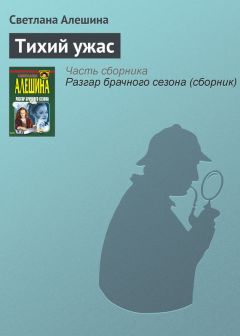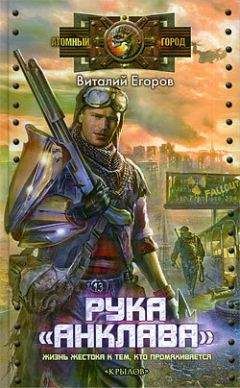Василий Казаринов - Тень жары
"Ах, вон, значит, как… — скажет он в ответ на девочкин короткий и неловкий рассказ; его шелкопрядно-пышные брови потяжелеют, и заострится маленький кукольный нос в тяжелом ярме оправы, и припухнут гипертрофированно огромные, спелые губы. — Мучительное это дело, надо вам сказать, детские игры, тяжкое. Я ведь за вами наблюдал, там, во дворе — когда разбежались ваши сотоварищи, и вы остались в одиночестве у стены. У вас был очень несчастный вид, такой бывает только у очень, очень одинокого человека… Теперь вам этого не понять, но все равно послушайте — когда-нибудь вы вспомните еще эти слова… Во всех этих детских играх есть что-то наподобие синдрома. Синдром — не понимаете? Что-то вроде болезни — она впитывается в человека в детстве и так преследует его потом всю жизнь… Ну, вот ваши прятки: тут явный синдром одиночества. Или жмурки — до чего же несчастен водящий, погруженный в темноту, лишенный зрения; он существует в каком-то диком, варварском и совершенно безопорном мире, раскачанном, накренившемся… Впрочем, в подвижные игры меня в детстве не брали, я их больше наблюдал со стороны. Но вот вам, например, фанты! До чего же несуразная игра! По какому праву некто, повернувшись к тебе спиной, навязывает тебе свою волю? Знаете, что мне все время выпадало в фантах? Думаете, стишок прочитать? Песенку спеть? Рисунок исполнить? Куда там… Мне все время выпадало — станцевать. Впрочем, что это я? Чаю хотите? Да вы не скромничайте. Сейчас заварим. Варенье вы какое любите, вишневое? Или клубничное?.."
Ну вот, охотник, а потом, через год, когда девочка пойдет в пятый класс, этот толстогубый хромой человек будет назначен ее классным руководителем — и часто она будет приходить в Дом с башенкой, сидеть под живописными небесами.
Хотя, теперь жизнь перевернулась — сколько же я не была здесь, когда в последний раз навещала Дом с башенкой? Года два назад.
4
Заснуть мне так и не удалось. Я оделась, вышла на улицу. Люминесцентный светильник, работавший вполнакала, спелой сливой нависал над нашим переулком. Зачем я на ночь глядя опять отправилась в Дом с башенкой? Не знаю…
Должно быть, меня повел туда инстинкт. Вон, и месяц в самом деле вышел из тумана — висит в черном небе, холодный, неживой; и греет в кармане свой ножик…
В дальнем конце переулка грохочет стекло: кто-то мечет из окна пустые бутылки, они тяжело, гулко взрываются на асфальте.
Ивана Францевича мы дома не застали. Своим нервным пальцем я, скорее всего, выколола дверному звонку его черный пластмассовый глаз: давила, давила на кнопку — и звонок под пыткой истерично вопил где-то в глубине квартиры, хозяин которой так и не пришел ему на помощь. Вспомнила: запасной ключ всегда хранится в маленькой нише справа от двери, где установлен счетчик электроэнергии: сине-бело-черным языком счетчик медленно облизывал губу и смаргивал какую-то цифру.
Мы обследовали квартиру. Затхлые запахи хмуро стояли по углам, охраняя характерный воздух нежилья. Живописный оттиск нашего старого доброго неба заинтересовал охотника — правда, он заметил, что с таким потолком трудно жить: все время кто-то точит взглядом затылок. В дальнем углу, ближе к окну, штукатурка осыпалась, обнажив мелкую сетку тонких деревянных несущих реек; везде — на полу, на мебели, книжных стеллажах — лежал слой белой штукатурной пыли.
У моего охотника оказалось немыслимое, никак с внешностью не монтирующееся имя — его звали Зиновий. В самом деле, какое неудобное, холодное, неживое имя; большинство имен подвижны и наделены способностью теплеть: Иван Иванович — холодно; Ваня — уже теплее; Ванечка — ах, как славно разогрето слово уменьшительно-ласкательным суффиксом! А Зиновий… Я сказала, что буду звать охотника Зиной — а что, по-моему, это мило; и вовсе оно, как заметил бы классик "не застегнуто на левую сторону" — носят же мужчины имена Валя, Женя… В ответ на замечание относительно несоответствия имени и внешности он ощупал лицо, точно проверяя, все ли в лице на месте.
– Зина, ты еврей?
Он удивленно приподнял бровь и сказал, что не знает. Возможно, он грек. Или русский. Может быть, мордвин или чуваш. Точно он может сказать одно: он не негр и не китаец.
– Я в самом деле не знаю, кто я. Кто я и откуда взялся.
– Разве так бывает?
Он мрачно кивнул: бывает.
Потом мы заглянули ко мне.
Усевшись с ногами на бабушкин купеческий диван, я наблюдала, как он осваивается в новом месте: щупает корешки книг, щупает мои насупившиеся лыжи (три времени года они стоят, уткнувшись носом в угол, как наказанный за непослушание школьник) и осторожно присаживается на диван, точно опасаясь запретного соприкосновения с музейным раритетом (впечатление справедливо: диван мой — долгожитель; резьба, извиваясь, ползет по краю спинки и блеет какой-то путаный орнаментальный текст черного дерева; боковые спинки уютно выставляют локти в пухлых нарукавниках кожаной обивки; и ложе еще мускулисто, под кожей перекатываются тугие бицепсы — умели раньше мебель мастерить!). И дальше наблюдаю, как, покосившись на Веселого Роджера, хранителя моего девственного ложа, он поднимается, прохаживается вдоль стеллажей, растворяя туманные отражения лица в стеклах, и недоуменно ощупывает груду машинописных листов, возвышающуюся на рабочем столе (тоже бабушкина мебель, тех же древних негритянских кровей, что и диван):
– Х-м… Твое?
Мое — ветхие останки прошлой жизни; листы пожелтели, скрючились, греют гербарийно засохших тараканов; мое — опавшая крона диссертационного древа. Название ее я теперь и не выговорю… Однако можно рискнуть; кажется, звучит примерно так: "Проблема социальной детерминации искусства в работах прогрессивных мыслителей Латинской Америки" — Господи, какая тарабарщина! Груда кособоких, рахитично шаркающих текстов, глыбы глав, бетонные блоки параграфов, мертвый синтетический язык и долгий шлейф библиографии: произведения классиков, официальные документы съездов, угрюмые догматики вроде Агостии, Мариатеги, Арисменди, Тейтельбойма, Корвалана, Кастро, пересыпанные нашими отечественными эстетствующими ортодоксами; и все это для шарма расшито блестками, пусть и грубо, белыми нитками, пристроченными: Маркес, Картасар, Астуриас, Неруда, Льоса, Отера-Сильва, Онетти, Фуэентес… Тускло где-то мерцал Борхес — впрочем, он был решительно спорот научным руководителем.
– Детерминация? — Зина в мучительном раздумье сдвинул брови. — А что это значит?
А черт его знает: я и прежде-то не разбирала смысл этого понятия, а теперь и подавно не разберу; и слава Богу, что эта бумажная уродина, это в муках созревшее во мне дитя, этот недоносок с грацией неандертальца и ухватками вышибалы, так и не объявил свой младенческий крик в какой-нибудь сомлевшей от запаха пота и тоски аудитории, — не дошло дело до защиты.
Я вспомнила: деньги… Отдала Зине конверт, перетянутый резинкой, он небрежно сунул его в карман. Ушел он часа в четыре. Я предложила подвезти, он отказался.
Остаток дня я провела на диване. Попробовала читать, но минут через десять отложила книгу.
Отчего-то меня тянуло в Дом с башенкой.
Да, надо сходить — возможно, Иван Францевич уже вернулся.
Странно: в последнее время он редко выходил; в магазин, разве что, в сберкассу за пенсией — ходить ему стало совсем тяжело.
Дверь я открыла запасным ключом, позвала. Никто не откликнулся.
Не нравится мне все это, и в первую очередь не нравится — воздух нежилья. Я прошла в комнату и зажгла свет. Протерла пыль, уселась за круглый обеденный стол — прямо под нашим старым добрым небом.
Я всегда ощущала его как некую звуковую материю, — в моей личной картотеке звуков много чего хранится… Сигнальное покрикивание татарина-старьевщика: "Ста-а-а-а-рьл!.." — головка фразы стоит высоко у верхних окон; туловище же и, тем более, хвост клубящейся мешаниной гортанных хрипов растекаются у земли и пенятся, как кусок карбида в луже. А вот — сдержанное, целомудренное чпоканье домино под старой липой… Или внезапное, точно от щекотки, взвизгивание электрички где-то вдалеке — в той стороне, где железная дорога. Термоядерный взрыв вороньего крика в сквере, рассыпающийся на множество мелких, острых осколков, кувырком летящих с высоких тополей, а вслед за взрывом — бурные аплодисменты испугавшейся вороньей стаи… Шорохи в зарослях боярышника — безжалостно, густо, в упор расстрелянного сочной, поспевающей шрапнелью… И что там еще хранится в картотеке?
Есть монотонное, бесконечно вытянутое бубнение радиоприемника за распахнутым окном на третьем этаже — там, в темных уютных глубинах комнаты, прорастает гладкокожий фикус. И скрученное жгутом журчание водяной струи, сочащейся из крана, — к этому крану, высунувшемуся из цоколя, наш дворник Костя прикручивает черную жилу шланга для ежеутренних орошений двора; шланг шипит коброй, а вырывающаяся из него струя вся инкрустирована радужными зернами. И будто даже бордюрный камень в молочной пенке тополиного пуха, и липовый летунок, штопором ввинчивающийся в теплый воздух, и зеленые вспышки травы в трещинах асфальта, и ночное копошение шампиньонов в черной земле сквера, и шевеление теней, неряшливо измазавших двор, и растекание зеленоватой плесени под низкими сводами арочных проходов — все, все, все имеет свой опознавательный звуковой знак…