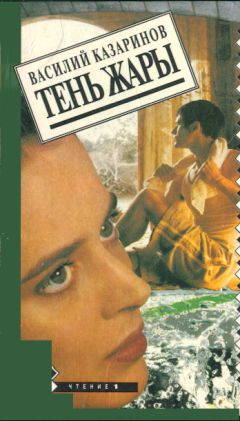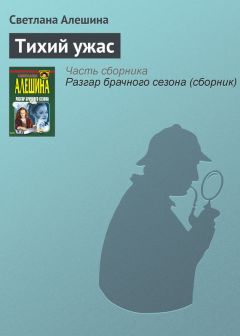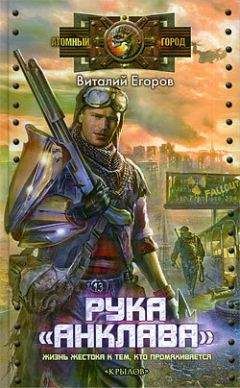Василий Казаринов - Тень жары
– Вкусные? — переспросила я.
– В целом ты действуй в жанре саги, — наставляла меня Варвара, — это у тебя хорошо получается, но при этом надо иметь в виду соображения "вкусности"… Как бы это объяснить… — в трубке возникла пауза, потом что-то зашуршало.
– Ну вот хотя бы это, с телетайпа, Франс-Пресс передает, — Варвара что-то пробубнила себе под нос, потом выкрикнула: — Да! Слушай. "Одна девушка в Центрально-Африканской республике в ходе нетрадиционных любовных утех откусила возлюбленному детородный орган" — представляешь, какой кайф!
Иной раз я туго соображаю. Это был именно тот случай.
– Как это? — простодушно поинтересовалась я.
Варвара ответила — глубоким стоном.
– А-а-а, — наконец сообразила я. — Понятно. Вкусности. Понятно.
Мой первый труд — "Сага о чуме и холере", по оценке Варвары, имел большой успех. Я перемолола кучу газет за пару последних лет и составила подробнейшую антологию рецидива на просторах нашей Огненной Земли тех болезней, которыми мир переболел в эпоху средневековья и о которых узнает разве что за чтением исторических романов. Оказалось, что если свести вместе все короткие и явно эзоповым языком изложенные сообщения о холере, чуме, черной оспе, тифе и других дремучих хворях, то картина получается очень впечатляющая. Правда, у Варвары были неприятности: одного слушателя увезли на неотложке с микроинфарктом.
Следующую антологию — "Сагу о Геенне огненной" — я старалась выполнить помягче, чтобы не травмировать психику аудитории. Я представила панораму пожаров; в самом деле: все кругом горит, дымит и полыхает — если сгорел дотла такой монстр, как КамАЗ, то что говорить о коммерческих ларьках, офисах, магазинах, складах, квартирах, кинотеатрах. Кто-то из публики долго и настойчиво стучал Варвариному начальству по телефону, и в результате ее на некоторое время разлучили с микрофоном — за нагнетание катастрофических настроений. Репрессии ее только взбодрили — она опять почувствовала себя в родной стихии "борьбы за правду".
– А то, мать их, хуже прежних стали давить! — высказалась она о своем демократическом начальстве. — Ничего… Правду не зароешь! — и пожелала мне успехов в моих сокрушительных трудах.
В последнее время я работала сразу над двумя трудами: "Сага о родных и близких" и "Сага о том, что лучше быть бедным и живым, чем богатым и мертвым".
Прихватив наброски, я отправилась проведать Варвару.
2
Варвара жила на Комсомольском. Вернее сказать, они: Варвара и ее муж — милый, тихий интеллигентный человек с землистого оттенка лицом, низкого роста и высокого положения; поженились они года три назад. Трудно сказать, чем уж Варвара приворожила этого далеко не последнего сотрудника МИДа — не исключено, что именно основательной комплекцией и рабоче-крестьянской прямолинейностью. Так или иначе, они составляют занятную живописную пару: щуплый узколицый чиновник (он по специальности синолог) и Варвара, которая всякую попытку мужа вставить слово поперек пресекает решительно и бескомпромиссно: "Ты брось свои китайские штучки!"
Я немного припозднилась, уже вечерело. Минут двадцать пришлось ждать троллейбус. Наконец-то он притащился, долгожданный.
Я пробила талончик в компостере на задней площадке. Народу было не слишком много. В салоне были свободные места, но ехать мне было недалеко — ничего, постою.
Кто-то сочно дышал мне в затылок свежим перегаром. Обняв вертикальную стойку у крайнего сидения, раскачивался и колыхался гражданин с оплывшим лицом. Неустойчивость его бросалась в глаза, и я прошла в салон от греха подальше. Мы подъехали к метро "Фрунзенская". Что произошло в двух шагах от остановки — сказать не берусь.
Я услышала хлопок под ногами, за ним последовал жуткий свист. Я опустила глаза и уставилась на то место, где только что стояла. В чреве троллейбуса происходило утробное вулканическое брожение. Пол вздувался, вспучивался — как будто под рифленой резиновой кожей пола зрел нарыв. Созрел и прорвался…
В полу образовалась дыра с рваными краями — и в эту прореху, крича, как раненая птица, погружалась молодая женщина. Мы вместе ждали на остановке, и у меня было время ее рассмотреть. Впрочем, рассматривать было нечего — кроме ног. Восхитительные ноги, затянутые в тугие, черные, сально поблескивающие чулки — забыла, как они называются. Юбку она надеть забыла. Длинный лиловый свитер более открывал, нежели скрывал.
Плохо помню, как в потоке горячих тел, среди кулаков и ругательств, я выплеснулась через переднюю дверь на улицу.
Заднее колесо троллейбуса разлетелось в клочья.
Быстро подъехала "скорая"…. Женщину с изуродованными, жутко располосованными окровавленными ногами увезли.
Пьяный человек обнимал столб и блаженно улыбался.
– Спасибо вам, — сказала я. — Если бы не вы…
Я очень живо представила себя на задней площадке — ив очередной раз подивилась языку, способному на такое лукавство, как сослагательное наклонение: если бы он оказался трезвенником? А если б и оказался пьющим, но сегодня решил бы воздержаться? Если бы принял на грудь, но не такую дозу? Если бы ввалился в другой троллейбус? Если бы да кабы — то в этой карете "скорой помощи" валялась бы теперь я, без сознания, с разодранными в клочья ногами, ногами, ногами — прикрыв глаза, я опять увидела эти очаровательные ноги, затянутые в… и почувствовала, как Сергей Сергеевич Корсаков опять стучится в мои двери:
ДОЛЬЧИКИ!
ВЫБИРАЯ ДОЛЬЧИКИ, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ
ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ!
…пьяный, по-прежнему нежно, как любимую женщину, обнимавший столб, лукаво погрозил мне пальцем:
– Лоси-и-и-ны…
Господи, какой идиот… Остаток пути я проделала пешком.
3
"Балбесина!" — вместо заготовленной и старательно отрепетированной реплики ("Дай глоток чего-нибудь крепкого!") у меня вырвалась именно эта.
Варвара рывком втащила меня в прихожую.
Она была лысая.
Так мне показалось, когда дверь отворилась, и Варвара предстала передо мной во всей своей красе. Впечатление было настолько сокрушительным, что я моментально позабыла о приключении в троллейбусе. В прихожей у меня было время рассмотреть ее повнимательнее.
Да, она была лысая, но уже не вполне — с такой растительностью на голове человек покидает холерный барак, если ему суждено уйти оттуда своими ногами: густой плотный "ежик" в возрасте двух-трех недель.
У нее была абсолютно круглая голова и затылок с выражением трогательной беззащитности — какие у нас, оказывается, беззащитные головы, если их обрить.
Варвара (услышала, что ли, мои репетиционные упражнения на лестнице?) молча налила мне рюмку рябины на коньяке и, склонив голову набок, утомленно впитывала мой монолог, мелко кивая и время от времени освежая рюмку новой дозой.
– Все? — спросила она, когда вдохновение мое иссякло. — Можно хлопать в ладоши? — она налила себе, отхлебнула. — Теперь слушай сюда.
Оказывается, я напрасно расточала эпитеты и обличительные характеристики — просто она угодила в переделку, обычную для нашей Огненной Земли; она возвращалась после своего полночного эфира, и на нее напали четверо туземцев, совсем еще пацаны. Варвара — сказываются пролетарские гены и закалка Тушинского района — активно возражала агрессивным поползновениям молодых людей и с криком "Ну, кто тут хочет попробовать комиссарского тела?!" приласкала по голове одного из насильников деревянным тарным ящиком, удачно подвернувшимся под руку; тем не менее, оставшиеся в строю воины ее одолели.
Вели они себя странно и никакого интереса к комиссарскому телу не проявляли. Вся процедура заняла от силы минуты две-три. Потом туземцы ее отпустили и смылись, позабыв раненого товарища, заползшего в кусты, — "отряд не заметил потери бойца".
– Так тебя не обесчестили? — глупо удивилась я.
Варвара допила и облизнула губы.
Какое, к черту, бесчестие: просто обрили наголо, волосы сложили в огромный пластиковый мешок — и были таковы. Толкнут ее восхитительную шевелюру в какой-нибудь парикмахерской или фирме, изготовляющей шиньоны из натурального продукта, — представляю себе, сколько такая шевелюра может стоить.
Варвара провела ладонью по голове и заметила: мол, ничего, отрастут, зато у этого щенка уже ничего не отрастет.
– Что ты натворила?!
Варвара приподняла бровь, округлила глаза и приоткрыла рот — такой мимический рисунок можно прочесть в лице человека, услышавшего совершенную нелепицу.
— А чё они?
По этому характерному "А чё?" я определила, что в тот сумрачный полночный час она отлетела в миры своего пролетарского детства, очистилась от скверны высшего образования, сделалась девочкой тушинских окраин, с молоком матери впитавшей справедливый взгляд на вещи, согласно которому за око полагается — око, а за зуб — именно зуб. Однако ни глаз, ни челюсть, ни даже короткая стрижка молодого туземца ее не вдохновили. Она разыскала его в кустах, прислонила к дереву и…