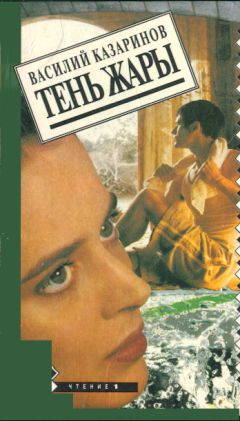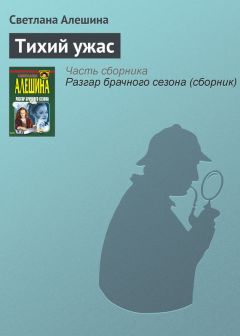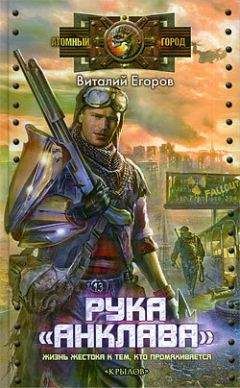Василий Казаринов - Тень жары
Панин, по счастью, оказался дома. Поломку он ликвидировал быстро.
– Куда мы теперь? — спросил охотник, когда мы выезжали со двора.
Тут недалеко… Мы едем в Дом с башенкой, проведать Ивана Францевича: он совсем старенький, газеты не читает, радио не слушает — наверняка весть о том, что у нас грянула денежная реформа, прошла мимо него.
– Поехали, охотник! Я покажу тебе наше старое доброе небо. Оно нарисовано на потолке в Доме с башенкой.
Дом с башенкой — алмаз в нашей ржавой короне, где все плебейские стразы тускло бликуют; Дом с башенкой — камень благородный, хотя и очень причудливо огранен. Несет он в себе примету незаконченности, как будто создатель наш, наш скромный ювелир, сидел себе за рабочим столом, утомительно долго шаркая грубым напильником, вытачивал фасады и дворы нашего Агапова тупика; занялся, наконец, огранкой настоящего камня — да вот в разгар точного, скрупулезного труда отчего-то зевнул… Откинулся на спинку стула, потянулся, приподнял утомленную бровь, выронил из глазницы черное бельмо ювелирной лупы, и, запахнув полы шелкового халата, отправился, предположим, на кухню — сварить себе кофию; сготовил, серебряной гильотинкой кастрировал гаванскую сигару, закурил да и задремал себе у окна… А проснувшись, засмотрелся в какой-то другой угол верстака, позабыл про нас, принялся вытачивать другие пространства; может, Сретенку полировал, или Лубянку гранил, Арбат осторожно шлифовал — так и остался Дом с башенкой незавершенным… Должно быть, смутные готические фантазии тревожили нашего ювелира за работой — и ожили под резцом, вычертились узкие бойницы окон, тонкие, летящие вверх линии фасада, глубокая ниша над подъездом, где встал на вечный пост Ричард и оперся локтем на рукоять огромного меча. И почему-то созрела в правом углу башенка; она эркером обнимает угол дома чуть выше уровня четвертого этажа и походит на глуповатую туру. По всему судя, дом должен бы иметь иной размер, иную форму: скажем, подъездов должно быть два — и башенки тоже две; однако через три окна от дозорного Ричарда готические линии резко, бездарно обрываются, точно рассеченные палаческим топором, а вторая половина дома обрушилась с плахи, покатилась куда-то — то ли на Сретенку, то ли на Чистые Пруды; и оттого Ричард так угрюм, тяжел в своем одиночестве, и даже не замечает, что его шлем и латы в отвратительной коросте голубиного помета… Он отшагнул в глубь полукруглой ниши; косой свет скользит по бетонным доспехам, оттеняет смотровые пазы забрала, острые холмики локтевых и коленных суставов и подчеркивает тяжесть огромной десницы в боевой перчатке; знакомы были дети под нашим старым добрым небом со вкусом свинцовых чернил Вальтера Скотта — и потому каменное чудовище, охраняющее Дом с башенкой, конечно же, звалось Ричардом, и в холодной толще бетона стучало для них львиное сердце.
Смотри, охотник, выслеживай: видишь, по краю сквера бредет маленькая рыжая девочка — что-то в ней есть от бельчонка, не правда ли, — маленького безобидного зверька, заблудившегося, потерявшегося в Агаповом тупике; и какой же у нее несчастный вид — она водит… Играли дети в прядки, вставши в круг, считались для начала, и рука разводящего отмеряла доли этого круга: Вышел. Месяц. Из тумана. Вынул. Ножик. Из кармана. Буду. Резать. Буду. Бить. Все равно. Тебе…
И ей выпало водить.
Она давно водит, никак не меньше часа: товарищи по игре попрятались, и она никого не смогла отыскать, Теперь бредет краем сквера и не замечает, что щеки ее влажные от слез — какая досада! отчего она так неудачлива в детских играх? — и вдруг чувствует, как на плечо ее опускается чья-то рука. Она поднимет глаза и увидит невысокого человека в строгом черном костюме — он знаком бельчонку: с этим учителем они встречались в школьных коридорах. "У вас какая-то беда?" — спросит учитель и, взяв за руку, поведет ее к Дому с башенкой. Идти ему трудно: он тяжело приволакивает правую ногу в черном, огромном, напоминающем спелую грушу ортопедическом ботинке, на ходу он раскачивается, как будто проваливается через шаг в ямку…
Входи, охотник, в этот подъезд — здесь так прохладен и спокоен притененный воздух. Наверное, этот воздух, впущенный однажды в просторный холл с мраморной лестницей, которую стерегут две каменные вазы по бокам, тут так и остался. Множество ветров неслось мимо тяжелой входной двери с круглым окошком, в толстое стекло которого проросли нити бронзового К узора, но он, этот древний первозданный воздух, почему-то сохранился — не выветрен. И вкус в нем свой, и цвет — бледно-рыжий — как фоновый тон фотокарточек, впаянных в жесткую картонку с золотым тиснением, — таких много хранится у бабушки.
Видишь, охотник, слева от лестницы — уютная, в три четверти человеческого роста, полукруглая ниша? Внутри ее живет некое таинство пустоты — не так ли? Вот именно, таинство пустоты: здесь кто-то когда-то определенно был. Наверняка. И конечно же, мраморный. Возможно, это мраморная греческая девушка, захваченная художником в момент летящего шага и насквозь, до самой мелкой мраморной прожилки, пропитанная воздушной энергией этого вольного движения. Она застигнута врасплох, обращена в камень в тот момент, когда тяжесть тела приходится на носок, и этот крошечный носок есть все, что связывает ее с земной твердью, а все остальное — уже не здесь, уже в полете: тонкие руки, отброшенные назад, хрупкие плечи, девичьи бедра, облитые тончайшей тканью туники… еще секунда, еще грамм энергии — и девушка взлетит… Хотя, возможно, и не она занимала нишу. А вот, скажем, легионер. Если он был тут, то в нем совсем иная кровь, иной вязкости и тяжести; он, может быть, зашагнул в нишу после долгого перехода по белой раскаленной, гремящей бранным железом боевой дороге; он жаждет, горло его пересохло от пыли и зноя, и весь он в тяжелом липком поту. Пока войско устраивается лагерем, раздувает костры, он отошел к роще, снял тяжелый шлем, расслабил колено, облокотился на обломок оливкового дерева и застыл, наградив себя за долгий путь и невзгоды этим мгновением полной расслабленности; а все, из чего сложена жизнь — кровь, пот, слезы, дым пожарищ, журчание контрибуционного золота, перекошенные рты насилуемых пленниц, бегущая по земле тень стремительного дротика — все это вдруг схлынуло, стекло с потом к сухой траве; и ничего не осталось — одно спокойное бесстрашное предвиденье скорого конца, возможно, даже в завтрашнем бою…
Бог его знает, охотник, кто именно стоял в нише тоща, когда вниз по лестнице, скорее всего, стекало полотно мягкого ковра, а мимо ниши степенно двигались прежние люди с прямой осанкой; и желтый свечной след полировал глянец их цилиндров, или взрывался вдруг в драгоценной нитке дамского ожерелья — взрывался и быстро, как шипящее пламя в бикфордовом шнуре, скатывался к самому краю декольте. Девочка послушно следовала за учителем по спиральной лестнице, ввинчивающейся высоко-высоко, в самое небо, до верхнего этажа.
Какая странная комната у учителя… В ней почему-то пять стен — ах да, ведь учитель живет в башенке. Он вытянет больную ногу, усядется в кресло, выдернет двумя пальцами белый уголок из кармана мягкого уютного домашнего пиджака, в который успел переодеться, — уголок рассыпется полотнищем платка. Учитель снимет очки, начнет медленно, подробно протирать стекла; глаза его без брони толстых, слегка желтоватых линз сделаются оловянными.
"Ой, что это?" — девочка поведет взгляд вверх — от обойных цветов к лепному бордюру, резко обрывающему край бумажного поля, которое все в синих васильках; и дальше взгляд подтолкнет — к краю тяжелой дубовой рамы, в которую закован пятиугольный потолок; и задохнется от восторга… А как же, охотник, а как же! Наши-то потолки, наши комнатные, неряшливо отбеленные небеса, где по вечерам стоит худосочное солнце в тридцать электрических свечей, оттеняя желтые разводы проточек и шершавые трещины, — все они скроены у нас, в Агаповом тупике, на один манер; угрюмы они и холодны, а тут — Господи, какая красота! Высокие сосны, а между ними, изгибаясь, ходит теплый ветер; белый песок пляжа и пруд — чистый, холодный — а над водой мостик горбится, учтиво переводя зрителя на лужайку; по лужайке дети бегут в доисторических каких-то одеждах: мальчики — в матросках, девочки — в легких белых платьицах с глухим высоким воротом, они… играют? Неужели тоже в прятки играют?
"Сколько я знаю, — объяснит учитель, проследив направление ее взгляда, — тут прежде доходный дом был, вы понимаете, что означает — доходный дом? Хотя, откуда вам знать… Сдавались, значит, квартиры, приносили доход, вот и называлось — доходный дом, вы понимаете значение слова "доход"? Хотя, откуда?.. Не самый, конечно, шикарный дом, но вполне, вполне — для публики, так сказать, среднего слоя: врачи, адвокаты… знаете, кто такие адвокаты? Да нет же, нет, вовсе не мильтоны… Ад-во-ка-ты… Ковер, конечно, был в парадном: широкий, красный (обязательно красный!), а туг? Тут башня, судя по всему, была — из слоновой кости. Почему, говорите, из слоновой кости? Ну, это выражение такое; мне рассказывали, здесь мастерская была, художник какой-то жил. Потолок — это он расписал. Хорошая фреска, не так ли? Несколько, правда, приторная — впрочем, возможно, я слишком строг — я математик и не люблю пасторали… Но заметьте, как устойчиво легли краски — раз и навеки; смотрите; ни трещин, ни патины — умели раньше краски разводить; но почему вы плакали, девушка?"