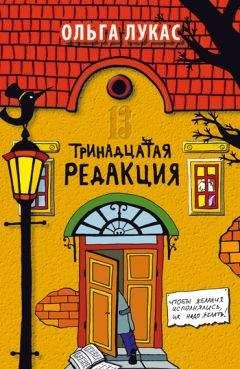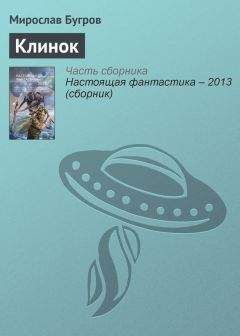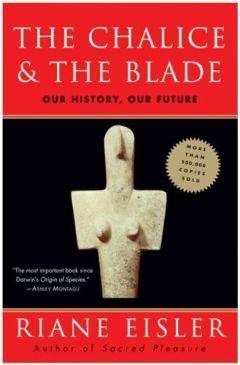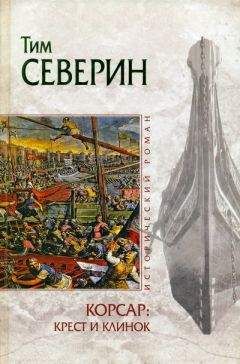Екатерина Лесина - Клинок Минотавра
– На конюшне… – сплюнув под ноги, добавила: – Ирод. Посадите уж его, дяденька…
– Посажу…
Если получится… след был, и Натан Степаныч многое выяснил, вот только хватит ли этого, чтобы отвадить от усадьбы падальщиков…
Петр и вправду нашелся на конюшне. Старая, но добротная, с крепкой крышей, со стенами, проконопаченными белым болотным мхом, она бы простояла многие годы. Внутри пахло свежим сеном, подводу которого сгружали тут же, закидывая вилами наверх, и старый конюх топтался, утрамбовывая. Переступали, всхрапывали лошади в денниках, рокотали голуби.
– Добрый день, Петр, – Натан Степаныч поклонился, но ответа не получил.
С самого первого дня братья прониклись к гостю искренней нелюбовью, точно чуяли его намерения докопаться до истины. И если выставить Натана Степаныча из усадьбы никак не могли, то всяко подчеркивали ту пропасть, каковая лежала между ним и людьми благородными.
– Мне бы побеседовать с вами… приватно.
Петр нахмурился и, хлопнув стеком по голенищу сапога, буркнул:
– Мне некогда.
– Да неужели? – Натан Степаныч оперся о перекладину и, вытащив из кармана горбушку хлеба, сунул лошадке. – С детства коней люблю… у моего деда было с полдюжины, не чета вашим, конечно, рабочие все, здоровые… но все одно катали нас, детей.
– Мне это не интересно.
– Понимаю. Спешите. Сообщника проведать? Убедиться, что не наговорил отец Сергий лишнего?
– Что?
– Не наговорил, – поспешил успокоить Натан Степаныч. – Но это пока лишь уверен в своей безопасности. Ему-то в отличие от вас бежать некуда…
– Что вы несете?
– Я не несу, как вы изволили выразиться. Я рассказываю о некоторых своих наблюдениях. Ну и о выводах тоже. Вам первому, к слову, и рассказываю. Так вот, отец Сергий – личность ничтожная, пустая и трусоватая. Зря вы с ним связались. Это он в разговорах смелый, а как дело следствия коснется, тут-то пустая его натура и выползет… вот увидите, надо чуть надавить…
– Я вас не понимаю.
Поджатые губы. И взгляд недобрый, нервный, полыхнул и погас.
…Главное, чтобы телеграммка, которую Натан Степаныч еще накануне с мальчишкой на станцию послал, дошла вовремя. И чтобы начальство к просьбе отнеслось с пониманием. И чтобы успел Гришка добраться… и верно, следовало бы погодить, но чуял Натан Степаныч – не осталось у него времени.
Ныли кости. Близилась гроза. А на грозу темные делишки всяк удобней вершить…
– А что ж тут понимать? – притворно удивился Натан Степаныч. – Скажите, чья была идея-то? Ваша? Или он сам таким затейником оказался? К слову, кто первый чистосердечное признание напишет, тому, стало быть, и вера будет. А с нею и судебное снисхождение.
– Что вы себе позволяете?
Петр вцепился в стек, того и гляди, забывшись, полоснет по лицу, злость вымещая.
– Правду. Я вот понять не мог, какая вам-то выгода князя убивать. Оно и верно, вы старого кобеля привели в ярость… как? Ну тут вы сами скажете, чего собакам дают, чтоб дрались люто, до смерти. А ваш братец спускался на кухню за маслом, потом ступеньки мыл. Его видели.
– И обвинят в пристрастии к чистоте? Та старуха сама сверзлась.
– Сама. Неудачно вышло. Вы надеялись, что князь свалится, готовились, а тут старуха… князь же неглупым человеком был…
– Чего вы хотите?
– А разве не понятно? – делано удивился Натан Степаныч. – Хочу я с вами тремя договориться. Скажем, устроит меня рублей этак пятьсот…
– Что?
– Другой кто взял бы дороже, – счел нужным предупредить Натан Степаныч, улыбаясь той своею улыбкой, которую милейшая Алевтина Михайловна именовала мерзейшей. – Скажем, тысячу, но я подумал, откуда у вас тысяча?
– Вы меня… шантажируете?
– Не только вас, заметьте. Но вы можете, конечно, сказать, что я все сочинил, и что от сочинений этих вам лично никакого вреда не будет, что я могу их на бумаге изложить, присовокупивши показания свидетелей, отправить начальству своему, пускай уж оно решает, что с вами делать.
Тихо стало. Голуби воркуют, лошадка в деннике топчется, высовывает морду и тянется к Натану Степанычу, выпрашивая уже не столько хлеб, сколько ласку.
– И быть может, вы окажетесь правы, и нашел я не так уж и много, и начальство, оценив все, решит делу хода не давать, скажет, что нет у меня доказательств веских вашей вины… однако, может статься, все сложится иначе. Ведь мой-то начальник с покойным князем некогда приятельствовал, и весьма высоко его ценил…
Натан Степаныч замолчал, позволяя додумать остальное.
Петр не спешил заговаривать. Он стоял, похлопывая стеком по голенищу сапога, хмурился, глядел исподлобья, с презрением, с ненавистью…
– Пятьсот рублей, значит?
– Именно, дорогой… именно…
…Павел отыскался на заднем дворе, он сидел в старом кресле, наблюдая за курами. Он был пьян и неряшлив, в расстегнутой рубашке, босой, с запыленными ногами.
– А… з-заступничек! – Павел взмахнул бутылкой, в которой оставалось едва ли на треть мутного, весьма характерного вида напитка. – С-снизошли до простых смертных.
– Доброго вам дня.
– И вам. Садитесь. Выпейте со мной! А то мой братец, паскуда этакая, отказался. Представляете? Я к нему со всею душой… нараспашку, можно сказать, а он отказался.
– Нехорошо с его стороны, – Натан Степаныч бутылку принял и, присев рядом, сделал вид, что глотает.
– От! Другое дело! Сразу видно – хороший вы человек…
– А вы?
– И я хороший, только неудачливый… гроза будет, – совсем иным, трезвым голосом добавил Павел. – Вы гроз боитесь?
– Нет.
– И я нет. А Лизка наша – боится. До умопомрачения.
Он захихикал и прижал к губам палец.
– Но тише. Это тайна… она думает, что никто-то не знает. Но в этом доме тайн не сберечь… кто-то да видел… кто-то да слышал… вот вы знали, что я масло на лестницу пролил?
– Случайно.
– Конечно, случайно! На конюшню нес. Копыта мазать… чтоб блестели…
– Сейчас придумали?
– А то, – Павел смотрел со злым весельем. – Сами посудите, не могу же я сказать, что пролил нарочно, желая, чтоб мой дорогой дядя шею себе свернул…
– А вы желали?
– Да вы что! Как можно человеку смерти желать?! – он засмеялся, запрокинув голову. – Нет, Натан Степаныч, не желал я. Лучше от него зависеть, чем от нашей дорогой Лизки, которая притворяется нежным цветочком, а на деле – та еще сколопендра. И все ж таки гроза… я вот грозы люблю, знаете ли…
– Вы сговорились с отцом Сергием, чтобы князя извести, – Натан Степаныч зябко повел плечами, потому как на подворье этом стало вдруг холодно. Он и вправду ощутил приближение грозы, ледяное дыхание ветра, волглое марево тумана, который того и гляди расползется, затапливая и дом, и двор. – А затем и Елизавету Алексеевну…
– И для чего же?
– Чтобы имение продать и поделить. Оно ведь церкви отойдет… думаете, отец Сергий с вами поделился бы?
– Как знать, – меланхолично заметил Павел, потягиваясь. – Он та еще паскуда в рясе… но вы ничего не докажете…
– Посмотрим. Может, я и доказывать не возьмусь… за небольшое вознаграждение.
– Насколько небольшое?
– Пятьсот рублей.
– На старость?
– А то, – Натана Степаныча покоробила снисходительная улыбочка Павла, – старость – она ведь близка. Этак, бывает, живешь-живешь, а тут раз и жизни этой конец виден, и начинаешь задумываться о том, как прожил-то ее, и приходишь к разумению, что прожил дерьмово, греховно… и если грехи-то еще выйдет отмолить, то вот, скажем, иные дела, материального плану, поправить куда как сложней.
Павел кивнул и к бутылке потянулся.
– И тем дороже каждый шанс…
– Пятьсот, значит… – сказано было с насмешкою.
– Пятьсот, – подтвердил Натан Степаныч. – И ни копейкой меньше. Ежели вы думаете, что доказательств ваших шуток у меня нет, то зря. Имеются показания, которых при желании хватит, чтобы и вас, и братца вашего упечь. Начальство-то мое очень о приятеле своем горевало…
Натан Степаныч поднялся.
К отцу Сергию он не пойдет, дождется вечера, а там… там либо преглупая затея его, которая простительна была бы человеку молодому и бедовому, удастся, либо… с другой-то стороны, он начальству отписался, изложил, все как есть, а уж там пусть решает. И в кои-то веки порадовался Натан Степаныч, что не имеет он ни жены, ни детей, значит, и не осиротит никого.