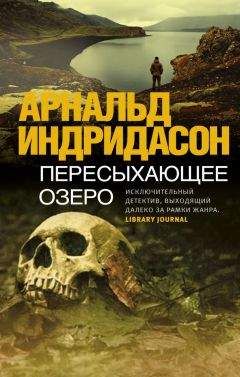Арнальд Индридасон - Каменный мешок
— Кто знает, вдруг в один прекрасный день тебя хватятся, а тебя и нет вовсе! Пропала, как Беньяминова подстилка!
Мама посмотрела Гриму прямо в глаза — это можно, ведь он все равно сейчас ее изобьет:
— Что ты об этом знаешь?
— А люди пропадают. Всякие люди. Даже из «благородных семейств». А уж если такие люди пропадают, то что говорить о тебе, блядь подзаборная? Кто станет тебя искать? Разве твоя мать с газовой станции. Как думаешь, станет она тебя искать?
— Оставь маму в покое, слышишь, — повторил Симон, не отходя от кухонного стола.
— Симон, ты это что? — спросил Грим. — Я думал, мы с тобой друзья. Ты, я и Томас.
— Я тебе сказал, оставь ее в покое, — повторил Симон. — Оставь ее в покое. Не смей больше к ней прикасаться. А лучше всего тебе уйти. Уйти отсюда и никогда больше не возвращаться.
Грим подошел к сыну и уставился на него так, словно перед ним стоял не Симон, а совершенно незнакомый ему человек.
— Так я уже уходил. Меня не было дома шесть месяцев, и вот как вы меня встретили по возвращении. Мою бабу обрюхатил какой-то янки, а мой крошка Симон вознамерился вышвырнуть папу из дому. Ты что, Симон, думаешь, сможешь со мной справиться? В самом деле? Думаешь, в один прекрасный день у тебя хватит сил со мной справиться?
— Симон! — крикнула мама. — Успокойся, все в порядке. И вот что. Возьми Томаса и Миккелину и отправляйтесь-ка на Туманный мыс. Будете ждать меня там. Ты меня хорошо расслышал, Симон? Делай, что я говорю.
Грим осклабился:
— Ты только посмотри, Симон, сынок, что творится! Баба взялась командовать у меня дома! Что она себе возомнила? Кем себя воображает? Да, друзья, как много переменилось, пока меня не было. Полгода — и такие новости.
Грим выглянул в коридор:
— А что с уродкой? Что, калека тоже решила раскрыть свой поганый рот? Сра-сра-сра-сра-сраная калека, которую мне давно пора придушить. Это что, ваша благодарность? Это, блядь, ваша мне благодарность, вашу мать?!
Грим уже орал.
Миккелина уползла подальше во мрак коридора. Томас не двигался с места и все смотрел на Грима. Грим заметил это и улыбнулся до ушей.
— Но с Томасом-то мы друзья, — сказал Грим. — Томас ведь никогда не станет обманывать своего папу, правда, Томас? Ну, подойди ко мне, сынок. Подойди к папочке.
Томас так и сделал.
— Мама позвонила по телефону, — сказал он.
— Томас! — ахнула мама.
25
— Я не думаю, что Томас хотел ему помочь. Напротив, мне кажется, он хотел его напугать и тем самым помочь маме. А уж если совсем честно, то, по-моему, он просто не знал, что делает. Он ведь был еще совсем маленький. Бедный, бедный мальчик!
Миккелина замолчала и посмотрела на Эрленда. Они с Элинборг уже который час сидели в ее гостиной и слушали рассказ про маму, про их жизнь на Пригорке, про маминого мужа, как они встретились по воле случая, как он ударил ее в первый раз, как побои делались все чудовищнее и регулярнее, как она дважды пыталась от него сбежать, как он обещал ей убить детей. Они узнали и про военную базу, и про солдат, и про воровство со склада, и про Дейва, любителя рыбной ловли, и про то, как ее отчима увезли в кутузку, про то, как американец и мама полюбили друг друга, как братья выносили Миккелину гулять, как Дейв водил их на пикник, и про холодный осенний день, когда отчим вышел на свободу.
Миккелина не торопилась. Она старалась не пропустить ничего важного, сообщала столько подробностей, сколько считала нужным. Эрленд и Элинборг сидели, слушали и пили заботливо заваренный Миккелиной кофе, закусывая пирогом, который, по ее словам, она приготовила специально для них. Она очень радушно поздоровалась с Элинборг и спросила, много ли женщин работает в исландской криминальной полиции.
— Да кроме меня считай никого и нет, — улыбнулась гостья.
— Это позор, — сказала Миккелина и предложила гостье сесть. — Стыд и позор для нас всех. Женщины всегда и везде должны быть на первом месте.
Чтобы замять неловкость, Элинборг повернулась к Эрленду — тот изобразил на лице нечто вроде улыбки.
Они встретились в участке чуть за полдень. Элинборг знала, Эрленд был в больнице у дочери, и не могла не отметить, что выглядит босс мрачнее обычного. Спросила, как дела у Евы Линд — опасалась, как бы девушке не стало хуже, — но Эрленд сказал, мол, никаких изменений. Еще раз спросила, не может ли она для него что-нибудь сделать, ведь ему так тяжело; Эрленд покачал головой и ответил, мол, делать нечего, остается только ждать. Да только то-то и оно, что это самое ожидание, по мнению Элинборг, вытягивает из босса последние силы! Но она не решилась сказать ему об этом прямо. По долгому опыту работы с Эрлендом знала: шеф страсть как не любит говорить о самом себе с другими.
Миккелина жила на первом этаже небольшого многоквартирного дома на Широком пригорке.[57] Квартира не слишком просторная, но уютная. Пока хозяйка варила кофе, Эрленд обошел квартиру и изучил развешанные по стенам фотографии. Видимо, ее семья — или семья с друзьями. Фотографий немного, и, насколько можно судить, Пригорок не служит фоном ни единой.
Миккелина начала с краткой справки о себе самой. Ее голос разносился по квартире из кухни, где она возилась с кофе и пирогом. Она поздно пошла в школу, ей было почти двадцать, и в тот же год выдержала первый курс лечения. Несмотря на тяжелую инвалидность, сразу стала делать большие успехи. Эрленду показалось, что масса важных обстоятельств из этого краткого рассказа выпущены, но на это покамест можно не обращать внимания. Долго ли, коротко ли, Миккелина закончила школу для взрослых и поступила в университет, на факультет психологии. К моменту защиты диплома ей было за сорок. А сейчас она уже на пенсии.
На последнем курсе университета Миккелина усыновила мальчика, назвала его Симоном. Выйти замуж или завести собственных детей было непросто в связи с рядом медицинских обстоятельств, о которых рассказчица предпочла не упоминать и лишь горько улыбнулась.
Сказала, что приезжает на Пригорок регулярно весной и летом, присматривает за смородиной, а осенью собирает ягоды и делает из них варенье. У нее еще осталось немного с прошлого года, она предложила гостям попробовать. Элинборг, большая любительница кулинарных изысков, рассыпалась в комплиментах, и Миккелина подарила ей банку, извинившись, что осталось так мало.
Рассказала им, как впервые обратила внимание на рост столицы, как стала следить за появлением новых районов, как сначала, прямо на ее глазах, Рейкьявик проглотил Широкий пригорок, затем Ямную бухту, затем, словно лесной пожар, подгоняемый ветром, дотянулся до Мшистой горы, а там под натиском пал и Ямный пригорок, где она когда-то жила. Где испытала столько боли.
— С этим местом связаны исключительно болезненные воспоминания, — сказала она. — Там не было ровным счетом ничего хорошего. За исключением того краткого лета.
— Вы родились больной? — спросила Элинборг, постаравшись сформулировать вопрос как можно аккуратнее. Впрочем, тут сложно человека не задеть, как ни спрашивай.
— Нет, — ответила Миккелина. — Я заболела трех лет от роду. Меня положили в больницу. Мама рассказывала мне, что тогда были какие-то чудовищные правила — родителям запрещалось посещать детей в стационарах. Мама никак не могла этого понять, ведь это бесчеловечно — разлучать родителей с детьми, особенно когда дети маленькие и тяжело болеют, и кто знает, выживут ли. Через несколько лет мама поняла, что если со мной заниматься, я смогу наверстать упущенное из-за болезни, но отчим не разрешил ей ухаживать за мной, запретил ей показывать меня врачам, запретил даже думать о лечении. Мне кажется, я помню кое-что из жизни до болезни, впрочем, я не уверена, может, это просто игра воображения… Так или иначе, я будто бы помню, как светит солнце и я в каком-то саду при каком-то доме, наверное, где мама была горничной, бегу, крича во всю глотку, и будто бы мама за мной гонится. Вот и все. Помню, как бегала, когда и куда хотела.
Улыбнулась.
— Но мне потом часто снились такие сны. Будто бы я здорова, могу самостоятельно ходить, у меня не дрожит голова, когда я говорю, и лицо у меня нормальное, а не как обычно — мускулы сокращаются сами по себе и все думают, будто я корчу рожи.
Эрленд поставил чашку с кофе на стол.
— Вы сказали мне вчера, что назвали сына в честь брата, Симона.
— О, Симон — чудесный мальчик. Он мне единоутробный брат. И в нем — ничего от отчима. Он точь-в-точь как мама. Добрый, отзывчивый, всегда помогал всем и во всем. Не в силах был видеть зло, бедняжка. Ненавидел отца всеми фибрами души, и сам же пострадал от этой ненависти. Хрупкая душа, ему нельзя было никого в жизни ненавидеть, ни за что. А ему пришлось… И еще он, как и все мы, все детство провел в страхе смертном. Когда на отчима находило, он не знал, куда деться от ужаса. Он видел все, что тот делал с мамой, как ломал ее об колено с утра до вечера. Я в такие минуты накрывала голову одеялом, но краем глаза видела, что Симон стоит и смотрит на происходящее. Мне казалось, он пытается закалить себя, готовит себя ко дню, когда вырастет, станет сильным и сможет отца остановить. Сможет совладать с ним. Иногда он даже пытался вмешиваться, вставал перед мамой и преграждал отцу дорогу. У мамы сжималось сердце, она готова была вынести самые жестокие побои, но только не это. Мысль, что пострадают дети, была для нее ужаснее самой страшной боли. Такой чудесный, добрый мальчик наш Симон.