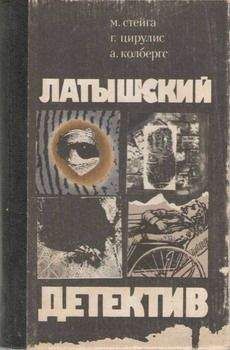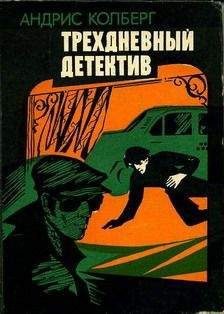Андрис Колбергс - Ночью в дождь...
— Профессор, а вы не задумывались над тем, что остальные ребята могли заметить номер вашей машины?
— Я даже не думал об этом. Разве что позднее. А тогда я вообще не думал ни о каком номере. Мне только хотелось поскорее уехать. Будто можно сбежать от того, что случилось! Как проснуться и тем избавиться от ужасного кошмара. — Помолчав, он продолжал: — Если я должен что-то написать или следовать за вами, то говорите.
И я снова упускаю возможность встать и увести его за собой.
«Нет, он, наверно, еще не осознает серьезности случившегося. Наказание, к которому он приготовился, — оно ему неприятно, о, как оно ему неприятно! — вовсе не из уголовно наказуемых. Он приготовился к тому, что его будут стыдить, увещевать — так стыдят мальчишку, который с немытыми ногами залез в постель на чистые крахмальные простыни. И бежал он тогда не от уголовного наказания, а от того, что его будут стыдить и журить».
— Что сказал ваш мастер-печник?
— Ему-то что говорить! Не он ведь был за рулем. Он прекрасно видел, что я нисколько не виноват. Когда мы отъехали уже с километр или больше, я сказал, что надо вернуться назад, вдруг нужна помощь, но он отговорил меня — пострадавший, мол, был не один, неподалеку в кафе есть телефон, а до районной больницы всего три-четыре километра. Не скрою, то, что он говорил, для меня было как маслом по сердцу. Я ужасно не терплю всякие формальности, протоколы — это может вывести меня из равновесия на несколько дней. К тому же я был убежден, что с парнем ничего серьезного произойти не могло — так, синяки, ну, в худшем случае — небольшой перелом. В последующие дни я, конечно, мысленно снова и снова возвращался к этому, анализировал случившееся, но всегда приходил к такому выводу.
— А сейчас вы такого же мнения?
— По правде сказать, не знаю.
— Несколько минут назад вы сказали: кажется, он неудачно упал… Это не совсем совпадает с тем, что вы говорите сейчас.
— Почему не совпадает? Очень даже совпадает. Не хотите ли еще чаю?
— С удовольствием.
Профессор протягивает мне серебряное ситечко в виде грецкого ореха с дырочками, подвешенное на цепочку. Наполняю его ароматным чаем «Black curraut» и опускаю в чашку с горячей водой.
— Сахар?
— Спасибо, я охотнее пью без сахара.
— Почему не совпадает? — профессор повторяет вопрос. — Я был уверен, что падение парня осталось без последствий, но ваше появление здесь поколебало мою уверенность. Не думаю, чтоб вы стали тратить время из-за каких-то синяков.
— После этого происшествия вам случалось встречаться с Грунским?
— Практически нет. Он, правда, продолжил кладку камина, но мы больше не виделись, потому что в хозяйственных делах я полный профан, ими занимается моя жена. К тому же я, кажется, в то время уезжал на симпозиум в Киев.
— Прекрасный чай.
— С ароматом черной смородины это еще так себе, а вот жасминный… Если вам случайно…
Где же мне представится такой случай, профессор?..
«Так они, наверно, и стояли друг против друга в сверкающем чистотой коридоре клиники: Наркевич, скорее удивленный, чем испуганный, — воплощение вечного превосходства в стерильном белом халате, и Грунский — с красным испитым лицом и загноившимися уголками глаз, в вонючем и грязном тряпье, словно мусорщик. Проходящие по коридору оглядываются, сестры морщат кокетливые носики, а санитарка стоит тут же с мокрой тряпкой наготове, чтобы стереть с линолеума грязные следы. Может, следов и не останется, но она все равно протрет пол, на всякий случай.
Казалось бы, стоит только стерильному халату строго глянуть на наглеца и тот превратится в кучу пепла, но нет, он стоит себе и маслено улыбается во всю свою красную физиономию:
— Подкиньте малость от своих богатств! Это я честно заработал — ведь держу язык за зубами, хе-хе. Я же пьяница, и моя совесть стоит дешево, а вы не разоритесь, доктор, но задаром я свою совесть не отдам. Вы прилежно трудитесь, у вас должны быть деньги, а я не работаю, но и мне нужна копейка-другая!
И тогда вы затаскиваете его в свой кабинет или еще куда-нибудь, чтобы не видел персонал, даете несколько рублей (такие сразу много не просят) и упрашиваете в клинику больше не приходить. Он клянется — в пятый, седьмой, десятый раз. И появляется снова, и вы снова просите, а он снова обещает. Потому что он приходил уже не только за деньгами — он приходил, чтобы насладиться своей властью над вами. Этот нравственный урод, обнажающий свои гнойные язвы, ухмыляясь, спрашивает: ну что, нравится? А вы боитесь ответить: нет, не нравится!
Он торжествовал. Не только над вами, профессор. Над всем чистым в вашем лице. Над всеми, кто добросовестно трудится, над всеми, кто не оценил ум его превосходительства, и над теми, кто не позволяет ему залезть в корыто всеми четырьмя.
С какой злобой он думает о ваших страхах! Валяясь целыми днями и глядя в потолок, он думает над тем, как использовать ваши страхи. Нет, это совсем не так-то просто — Грунский ведь боится потерять вас, вы его основной капитал, и на проценты с него он должен прожить до самой смерти. Он заставил противника кормить себя — вы всегда были противниками: что хорошо для одного, то вызывает отвращение у другого. Интеллигент! Для него это слово всегда было ругательством. Он вас уничтожил бы за одно то, что вы интеллигент, если бы смог отказаться от того, что вы давали. И разве он медленно не уничтожал вас? Не спеша. Садистски. Как отрывают лапку за лапкой у бедняги паука или стрекозы».
Звонит телефон.
— На сей раз, наверно, звонят мне, — я встаю.
— Пожалуйста, пожалуйста. Возьмите трубку. — Вижу, что профессору становится трудно владеть собой, его трясет. Разве из-за меня он снова не переживает случившееся? Ведь он знает, что я сейчас скажу. Наверно, у него сейчас снова все мелькает перед глазами: капли дождя на лобовом стекле, мокрый асфальт, силуэты парней в разноцветных куртках и детское лицо с мутными глазами и жиденькими усиками возле самой фары автомашины.
— Вы слушаете? — спрашивает девичий голос из вычислительного центра. — Двадцать девятого апреля на двадцать втором километре шоссе ни одной аварии не зафиксировано. Я вас огорчила?
— Почему огорчила? Я просто несколько ошеломлен…
— Я действительно не хотела огорчать вас, — в голосе слышится что-то вроде насмешки. — Ивар мне рассказывал о вас, и я, кроме того, у вас в долгу за несколько свиданий.
— А тридцатого апреля? Может быть, зарегистрирована позднее?
— Нет ни одного фиксированного случая за весь год. Был только какой-то звонок на центральный пульт, что «Волга» в Лиелциемсе наехала на юношу, но так как об этом нет ни протокола автоинспекции, ни заявления пострадавшего, дела не завели. Если хотите иметь полный текст сообщения, то завтра можете в архиве прослушать магнитофонную запись за двадцать девятое апреля.
— Спасибо, ваша информация была исчерпывающей.
— Стараемся, как умеем. — Девушка звонко смеется. — Спокойной ночи!
«Кто же звонил на центральный пульт? Кто-нибудь из приятелей того парня — до того, как он пришел в себя? Случайный прохожий? Может быть, люди из близлежащих домов — потом им было неудобно звонить снова и говорить: ничего трагичного не произошло. Ошибочные или ложные звонки по телефону в автоинспекцию не редкость. Ближайшая патрульная машина осмотрела двадцать второй километр, ничего не обнаружила, и вопрос казался исчерпанным».
Я растерян. Сажусь к столу.
— Вы поняли, о чем мы говорили?
— Не очень.
— Парень, на которого вы наехали, отделался легким испугом.
— Не может быть! — Наркевич вскакивает.
— Если автоинспекция не выезжала, значит… Возможно, было несколько синяков и порядочный нокдаун, но не более. Вы же сами работали в травматологии, знаете, что в любом случае сообщают…
— Ведь Грунский показал мне могилу парня! Летом. Совсем свежий холмик… Не зная, как помочь его близким, я каждый месяц посылал им немного денег. Значит, этот вонючий тип все время обманывал меня? — Наркевич повышает голос и рассекает воздух указательным пальцем. — А если так, то я спрашиваю: на каком основании вы здесь?
За ошибки приходится платить. Сейчас я пожалею, что своевременно не сказал: «Одевайтесь, идемте!»
— Вы знакомы с Винартом Кирмужем?
— Да.
— Вот поэтому я и нахожусь здесь.
«Только ежемесячно проценты, которые полагаются по наследству, но когда их переводят в рубли, то получается не очень много», — говорил Петерис Цепс о доходах Алексиса Грунского. Вот откуда «Граф Кеглевич» и «проценты по наследству».
Наркевич унизился передо мной, и теперь его прорвало огромным и бурным потоком слез бессилия, который способен снести дамбы, выйти из берегов и смыть легкие постройки. Наркевич не привык к поражениям даже задним числом. Теперь он обвиняет всех — общество, в котором такой Грунский мог процветать, милицию, которая таких грунских не вылавливает. Раза три или четыре профессор прерывает свою страстную речь и спрашивает меня, знаю ли я, кто он и где работает.