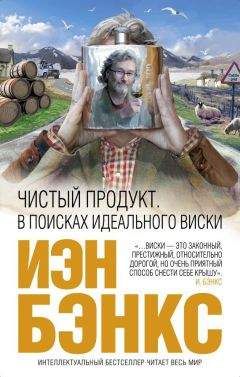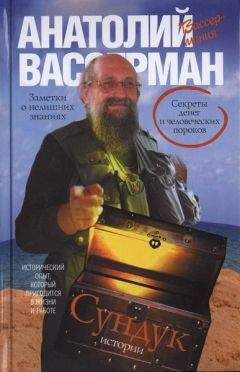Александр Горохов - Наказание
Людмила сразу беззвучно заплакала, только плечи у нее вздрагивали.
Ребенок заволновался.
— Тихо, миленький, тихо, — сказала она, обнимая его. — Твой папа умер. Ты его никогда, понимаешь, никогда не увидишь. И даже не узнаешь, кто был твой папа…
Они проскочили клиновидную развязку Московской кольцевой дороги под вечер, когда западная кромка неба была еще чуть светлой, а на восточной уже зажигались первые звезды.
Оба в тяжелых кожаных доспехах, с глухими шлемами на головах, при больших походных сумках, притороченных за спиной, они ровно и плавно набирали скорость, уже не хулиганили, не стремились обогнать друг друга и, словно по натянутой ниточке, гнали машины на север.
Плавно увеличивая скорость на опустевшем и потемневшем шоссе, они улетали в ночь.
Потом включили дальний свет, и кинжальный свет фар вырвал из тьмы узкий сектор летящей навстречу дороги.
Они слились со своими машинами как кентавры, у которых вместо четырех копыт было два колеса.
Останавливались только для заправки, заливали бензин, не разговаривая друг с другом, снова седлали своих стальных коней и опять ревела навстречу дорога и мощно, безостановочно грохотали двигатели мотоциклов.
Когда заалела восточная кромка горизонта, моторы все так же мерно и мощно гудели, все так же накручивались на колеса километры, а в низинах разлетались во все стороны клочья тумана, тускло серебрившегося над поймой.
Этот день, — а может быть, наступил уже следующий, ведь они оба потеряли чувство времени — застал их на узкой песчаной дороге, вьющейся посредине нескончаемого болота с очень чахлой низкорослой растительностью.
Немолодой капитан в форме войск МВД, не вставая из-за стола, глядел на сидевших перед ним парней неприветливо, не скрывая того, что их визит тяготит его, совершенно не нужен, нелеп и ничего, кроме огорчений, никому принести не может.
Он хлопнул себя по плечу и сказал напористо:
— Видите здесь на погонах четыре звездочки? А еще месяц назад была одна! Зато большая, при двух просветах, потому как я был майор! — он болезненно поморщился, словно звезды на плечах впивались ему в кожу. — И звезда эта исчезла из-за смерти вашего Ричарда. Ну да, мои чины и звания, понятно, ерунда, по сравнению с тем, что человека не стало. Однако, прямо вам скажу, что моей вины в этой смерти нет. Я кому хочешь, хоть его матери, могу прямо в глаза смотреть.
Аркадий безучастно спросил:
— А что вы сами думаете о причинах смерти Ричарда?
— Да нет никаких причин! — с откровенной тоской надрывно возопил капитан. — Не нашли! Две комиссии работали. И внутренняя искала и сверху три раза приезжали! У нас хорошие, примерные лагеря, нет у нас никакого этого беспредела и гомосеки у нас бал здесь не правят!
— Так что же, по вашему, — жестко спросил Борис, — человек повесился без всяких причин? Пошутить, поиграть ему вздумалось? Ни письма не оставил, ни записки, ни товарищу ничего не сказал?
— Нет! Ничего нет! Товарищей у него здесь не было. Замкнутый он был, а те, кого опросили, тоже ничего понять не могут. Внутри у него что-то засело! Внутри! Может, и не психическая болезнь, как врачи сказали, но какой-то надлом, которого я не приметил и остальные воспитатели тоже. И в тот день все нормально было! Отработал смену, как положено, сдал книги в библиотеку, а потом пошел в…
— Не надо деталей, — тихо сказал Аркадий. — Они нам неприятны и ни о чем не скажут.
— Понятно, — кивнул капитан. — Ну, вещи его мы выслали матери, как положено… Черт побери, ведь за пару недель до освобождения человек на такое решился, вот что самое непонятное. Ума не приложу! Понятно было бы, когда в середине большого срока, когда в прошении отказали и еще сидеть да сидеть! Тут сам бы в петлю полез. В таком случае психологически все объяснимо.
— Ричард не был психом! — внятно сказал Борис.
— Это уж точно, — спокойно согласился капитан. — Башковитый был парень. В самодеятельности очень хорошо участвовал. Жизнь бы его могла очень красиво сложиться, очень.
Аркадий наклонился к столу и настойчиво произнес:
— Вадим Николаевич, а нельзя нам поговорить с кем-нибудь из его приятелей? Ведь с кем-то он посылки делил, кому-то закурить давал, не может того быть, чтоб Ричард вовсе в угол забился и рычал оттуда на людей. Мы же его хорошо знали. Ну да, дружбу с местным контингентом он не заводил, но кто-то, какой-то товарищ по несчастью должен был быть, поверьте и нашему лагерному опыту, чего уж там скрывать.
— Вообще-то, конечно, были приятели… Однако, встречаться вам с ними не положено… Но с другой стороны, если вы с кем потолкуете, то может, что-то и прояснится в этом безнадежном деле. Так ведь?
— Так, так! — нервно крикнул Борис.
Капитан помешкал еще несколько секунд, потом встал и кивком позвал обоих за собой.
На скамейке, возле железной бочки, врытой в землю, под щитом с пожарным инвентарем сидел светловолосый, курносый парень с совершенно прозрачными глазами и чистой младенческой кожей. Услужливо и трепетно внимая, он уставился в лицо Борису, а тот впился в него полыхающими глазами и глухо чеканил слова:
— Бил его кто-нибудь? «Опустить», может, кто пожелал? Издевались? Пидоров у вас тут много?
— Нет! Нет! — торопливо ответил парень. — Что вы, брат! У нас никого не бьют. Иногда бывают стычки, но так, спокойно… Может раньше, когда меня еще здесь не было… Но при мне… я полгода с Ричардом дружил, все было хорошо и спокойно. И его все очень уважали… Он благостный был, брат, очень благостный.
— А в последние дни? — жестко жал Борис. — Что-нибудь случилось?
Аркадий сидел рядом, откинувшись к стенке, закрыв глаза. Теплое солнце как будто разморило, усыпило его и, казалось, он даже не прислушивается к этому самодеятельному допросу.
— В последние дни, брат? — с робкой поспешностью переспросил парнишка. — В последние дни он светлый был. Как ангел. Попросил, чтоб я его молитве Христовой научил. Я научил. Он повторил, а потом засмеялся и говорит: «Жизнь, Ванюша, не имеет никакого смысла. Ни здесь, ни в загробном мире». А после ужина пошел и…
— Об этом тебя не спрашивают! — оборвал Борис. — Как ты его понял, почему жизнь не имеет смысла?
— Неправду он сказал, брат, — улыбнулся Ванюша. — Бог дал человеку жизнь, значит в ней смысл есть по Его воле. Не дело человека против воли Господа идти.
— Приехали! — рявкнул Борис, а Аркадий лениво открыл глаза и спросил негромко, с сожалением в голосе:
— Тяжко тебе, наверное, Ваня, тяжело здесь дни коротать?
— Нет, брат! — строптиво ответил парень и даже засмеялся. — Мне везде легко. Что судьбой суждено, на то роптать не след. Мы с ребятами памятник ему поставили. Я крест Христов хотел над местом упокоения воздвигнуть, но не разрешили, а потом и нельзя ведь — он сам себя жизни решил, что богопротивно. Но он просветленный умер, всех простил.
— Откуда ты это знаешь, что он всех простил? — ощетинился Борис.
— Я не знаю, брат. Я чувствую.
Аркадий неторопливо поднялся со скамьи.
— Долго тебе еще здесь срок тянуть, брат Ванюшка?
— Три годочка без малого, — ответил тот и ласково тронул Бориса за локоть, заглянул ему в глаза. — Братья, мне кажется, вы хотите повинных в смерти Ричарда покарать, распнуть их?
Борис криво усмехнулся и издевательски сказал:
— Четвертовать их будем, братишка! Зонтик в задницы им вставим, там раскроем и назад с кишками вытянем!
В кроличьих, бесцветных глазах Ванюшки мелькнул не страх, но глубокое, убежденное осуждение.
— Вражья кровь не даст отмщения, брат. Истину приносит доброта и прощение всякого зла и святотатства.
— Ладно, братан! — Борис презрительно хлопнул его рукой по плечу. — Пусть эти ветхие идеи помогут тебе досидеть до конца срока без приключений.
— Подождите! — торопливо сказал Ванюшка, оглянулся, сунул руку под куртку, вытащил небольшой пакет, обернутый в газету и подал Борису. — Это письма, которые получал здесь Ричард. Мне удалось их похитить, чтобы их не читали казенные люди… Красть греховно, но эти письма нужны только близким, а не тюремщикам.
Аркадий взял пакет и сунул его за пазуху.
Борис дружески сунул Ванюшке кулак под ребра.
— Иногда ты не так глуп, как корячишься. Бывай.
Он догнал Аркадия и спросил с интересом:
— От кого это Ричард мог получить столько писем с воли?
Аркадий пожал плечами.
— От моей жены, конечно. От кого же еще?
Борис в изумлении покосился на него, но сдержался и ничего не сказал.
Кладбище было запущенным, жутковатым: железное равнодушие оград вокруг могил и молчание потемневших, позеленевших надгробий. Вокруг висели и валялись пожухлые бумажные цветы, засохшая трава, жестяные венки.
По извилистой тропе перед Борисом поспешно трусил мужик неопределенного возраста в портках, висевших на нем мешком.