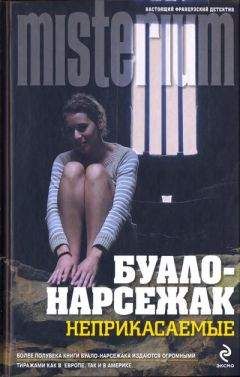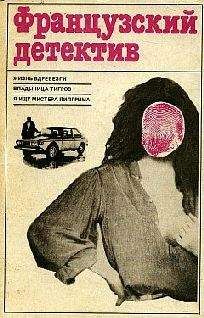Пьер Буало - Неприкасаемые
По правде говоря, любовь всегда меня пугала. Я описал Вам убийство зебры, которое так подействовало на меня. Мне кажется, что и в любви есть элемент убийства, с той лишь разницей, что тут не знаешь толком, кто чья жертва. Я готов даже признать, что секс вызывает у меня отвращение. Тогда как нежность — это тепло, доверие, или, точнее, как бы квинтэссенция всех добродетелей, которыми я никогда не буду обладать, но которые всегда будут вызывать у меня уважение.
Доверие? Оно светилось в глазах Элен. Говорил ли я Вам, что глаза у нее голубые, как бы «распахнутые», тогда как черные глаза вроде моих всегда что-то скрывают? Жизнь не слишком баловала ее, как она мне призналась. Трое братьев. Пятеро сестер. Крохотная ферма, которая не в состоянии прокормить всю семью. В город Элен уехала совсем девочкой. Сначала в Нант, потом в Париж. Я о себе рассказывал гораздо меньше, во-первых, потому, что «замкнут», как говорится, от природы. А во-вторых, мне не хотелось посвящать ее в тот кризис сознания, который я пережил, тем более что я видел, как истово, бескомпромиссно она верует.
Вкратце я рассказал ей о своей семье, об отце-нотариусе. Дал понять, что между мной и родственниками не все безоблачно. Короче говоря, наши старания сблизиться скоро принесли свои результаты. Мы стали друг другу необходимы. Элен согласилась выйти за меня замуж с единственным, однако, условием: на ней должно быть белое платье и венчаться она будет в церкви.
Это ее требование чуть было все не испортило. Я пытался объяснить ей, что я атеист и не могу лгать. И действительно, я делал перед ней вид, будто я неверующий, исполненный самых благих намерений, всей душой желающий проникнуться верой, но обойденный этой милостью. Быть может, когда-нибудь потом! В любом случае я оставлял за ней полную свободу сколько угодно ходить в церковь. И в конце концов, кто знает, возможно, ее пример увлечет и меня.
Клянусь Вам, я не притворялся. Во мне нет ни капли фанатизма. И я отнюдь не принадлежу к борцам за свободу мысли. Элен была ревностной верующей. Ну и пусть. Я даже признаю, что мне это нравилось. Я словно продрогший путник мечтал о крохе тепла. При той духовной опустошенности, которая царила во мне, любовь Элен была нежданным подарком судьбы. Мы поженились в Париже. Из Лондона Марсо прислал мне поздравительную телеграмму вместе с обещанием прибавить жалованье, что так и не было исполнено.
Тут я прерываюсь, дорогой друг. На сегодня хватит. Я еще часто буду Вам рассказывать об Элен, так как Вы понимаете, что за год между нами произошло достаточно стычек. Я и не думал, что из-за религии может возникнуть столько проблем. Мне это представляется настолько устарелым! И вот, пожалуйте…
До свидания, дорогой мой друг. Пора идти заниматься стряпней. А до тех пор нужно еще купить хлеба, минеральной воды, кофе и т. д. Безработный быстро становится мальчиком на побегушках.
С самыми дружескими чувствами Ваш Жан-МариРонан слушает, как мать внизу говорит по телефону.
— Алло!.. Это кабинет доктора Мемена?.. Говорит мадам де Гер… Вы не будете так любезны передать доктору, чтобы он зашел ко мне сегодня утром… Да, адрес наш у него есть… Мадам де Гер. Г… е… р… Да, именно утром. Хорошо. Спасибо.
Теперь он припоминает, что по телефону она всегда говорит этаким пронзительным голосом капризной хозяйки дома. Взбеситься можно. Сейчас она поднимется наверх, чтобы отворить ставни. Пощупает ему лоб, посчитает пульс.
«Как ты себя чувствуешь?»
Хочется крикнуть ей: «Оставь меня в покое!» Хочется крикнуть всем им — служанке, сиделке, врачу: «Оставьте меня в покое!» Ну, точно. Ступени лестницы уже скрипят. Начинается — поцелуи, нюни, слюни. Можно подумать, что он ее любимый сеттер, она только что его не облизывает!..
Она входит, раздвигает занавески, распахивает ставни. На улице мрак. Зима не сдается. Мамаша шлепает к кровати.
— Мой маленький хорошо спал? Температурки нет? Тогда, может быть, и обойдется… — Она нагибается к больному. — А то ты так меня напугал! — Гладит его по виску и вдруг подскакивает: — У тебя седые волосы! А я и не заметила.
— Ты же понимаешь, мамочка, с радостями у меня было туговато…
— Впрочем, всего два или три, — пытается она себя успокоить. — Хочешь, я их вырву?
— Ну уж нет! Я попросил бы. Хоть волосы мои оставь в покое.
Она выпрямляется и вытирает глаза. Слезы сочатся из ее глаз, точно вода из отсыревшей земли. Внезапно ему становится жаль ее.
— Брось, мам… Я же вернулся.
— Да, но в каком состоянии!
— Скоро поправлюсь. Не волнуйся! И для начала выпью капли. Видишь, какой я умница!
Она отсчитывает капли, добавляет кусочек сахара, смотрит, как он пьет, и мускулы на шее у нее сокращаются, будто она сама глотает лекарство.
— Сейчас доктор придет, — говорит она. — Постарайся быть хоть чуточку вежливее… Он всегда был так ко мне внимателен. Когда твой отец умер, просто не знаю, что бы я делала, если бы не он. Он взял на себя все формальности, всё. Уж кто-кто, а он от нас не отвернулся.
Всхлипывает.
— Ты никак не можешь понять, — говорит Ронан, — что он от тебя уже на стенку лезет. Он же смотрел меня вчера. Смотрел позавчера. Ну не каждый же день ему приходить! Кроме шуток!
— Как ты со мной разговариваешь? — шепчет она. — Ты стал совсем другим.
— Давай. Давай. Да, я стал другим.
Они внимательно смотрят друг на друга. Ронан вздыхает. Ему нечего ей сказать… Ему вообще нечего сказать. Сейчас, через десять долгих лет, он смотрит на знакомый с детства мир как бы сквозь дымку тумана. И ничего уже не узнает. Прохожие одеты совсем иначе. Форма машин изменилась. Ронану нисколько не хочется выходить. Да и сил нет. Только дом остался прежним. Он в точности соответствует воспоминаниям Ронана, в нем, как и когда-то, пахнет мастикой. До чего же далеко это «когда-то»! И отец был тогда жив, да-а, старый хрыч! Он тут царил. К нему обращались на «вы». Гостиная набита разными сувенирами, которые он привозил из своих странствий, и всюду висят его фотографии — в повседневной форме, в парадной форме — капитан корабля Фернан де Гер. Отставка доконала его. Когда он входил в столовую, никто не отдавал ему честь. И никого кругом, кроме жены, от преклонения перед ним совсем потерявшей голову, да насмешника сына.
— Сядь, мам. Знаешь, я иногда вспоминаю своих ребят. Кем, например, стал Ле-Моаль?
Она придвигает кресло. И тотчас пытается влезть к нему в душу. Молчание, точно занавес, висевшее между ними, начинает рваться. Она надеется, что Ронан наконец установит с ней мир. А он вспоминает времена, когда все средства казались ему хороши, лишь бы досадить отцу-тирану — Адмиралу, как прозвали его друзья Ронана. Их было совсем немного — четверо или пятеро; они бегали ночами по городу, царапали углем на стенах призывы, требуя независимости для Бретани. Полиция осторожно предупредила старого моряка. И начались страшные, смехотворные скандалы. Теперь Ронан чувствует себя вконец опустошенным. Слишком дорого он заплатил.
— Ты не слушаешь, что я говорю тебе, — снова доносится голос матери.
— Что?
— Он уехал из Ренна. И сейчас — аптекарь в Динане.
Ронан тут же представляет себе Ле-Моаля в белом халате, с едва заметной лысиной, отпускающего касторку и масло для загара. А ведь это Ле-Моаль прикрепил однажды ночью флаг Бретани к громоотводу на церкви Сен-Жермен. Грустно!
— А Неделлек?
— Но почему ты вдруг заговорил о них? Когда я к тебе приезжала, мне казалось, ты их совсем забыл.
— Я ничего не забыл. — Ронан задумывается. — Для воспоминаний у меня было три тысячи шестьсот пятьдесят дней.
— Бедный мой мальчик!
Он морщит лоб и бросает на мать взгляд исподлобья, что всегда вызывало ярость Адмирала.
— Ну? Так что же Неделлек?
— Не знаю. Он не живет теперь в Ренне.
— А Эрве?
— О, этот-то! Надеюсь, ты не позовешь его сюда.
— Как раз и позову, мне нужно кое-что обсудить с ним.
Ронан улыбается. Эрве был его заместителем, верным адъютантом; вот уж кто не спорил никогда.
— А он чем промышляет?
— Он унаследовал дело отца. Вот начнешь выходить, сразу увидишь его грузовики «Перевозки Ле-Дэнф» — они разъезжают повсюду. Солиднейшее предприятие. Отделения по всей стране, даже в Париже. Больше ничего сказать тебе о нем не могу, так как этот молодой человек никогда меня не интересовал. А бедный твой отец просто не выносил его.
Ронан зарывается головой в подушку. Лучше бы ему не тревожить призраки. Ле-Моаль, Неделлек, Эрве, остальные… Всем им сейчас между тридцатью и тридцатью двумя. Само собой разумеется! И все устроены. У некоторых наверняка жена и дети. Вспоминают ли они свою кипучую юность, драки, ночные вылазки, листовки, которые они клеили на шторы магазинов? К. Ф. победит! К. Ф. — «Кельтский фронт». Конечно же, время от времени кто-нибудь из них да вспомнит. Возможно, не без стыда — из-за смерти Барбье.