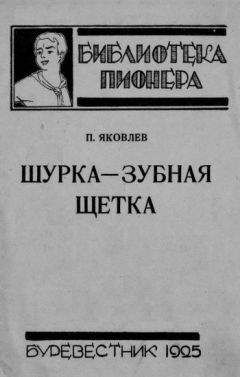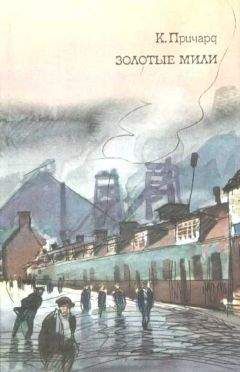Анонимный автор - Молчание Апостола
Но и коньяку плеснул себе в бокал кардинал Кшыжовский. Прав был генерал: тут и нервы вразнос, да и боль предстояла немалая. Заботлив монсиньор, скривившись, подумал кардинал. Сплошь забота – как бы дружеская. Как бы. Кшыжовский подумал, что все последние годы и он сам, и его окружение живет в мире «как бы». Как бы правды. Как бы веры. Как бы служения Богу. Или… Внезапная мысль обожгла его мозг: или «служения… как бы Богу?» Кардинал истово перекрестился, произнеся вслух:
– Защити, Господи!
И выпив залпом коньяк, тяжело опустился на стоявший рядом стул, и не мигая, смотрел на портрет канонизированного нынешним папой святого понтифика, земляка, учителя. Смотрел не отрываясь и не замечая, как по щекам его ручьем катятся слезы. Эх, Отец Святой, Ваше Святейшество, тяжеловат подарок по завещанию Вашему мне достался. Ведь в завещании своем высказал понтифик, выразив благодарность за верное служение прелату Кшыжовскому, просьбу к будущему папе: вознаградить верное служение прелата титулом кардинала-диакона – низшая из ступеней кардинальского достоинства, но при красной шапочке и – спасибо, Ваше Святейшество – навек – как на цепи при Ватикане.
Но все титулы, почет и всю роскошь, окружавшую кардинальскую его жизнь, Тадеуш Кшыжовский отдал бы за то, чтобы как прежде служить ему приходским ксендзом в городишке Белжыце, что совсем недалеко от Люблина. А ведь были еще и люблинские студенческие годы (машину времени бы, да не придумали еще) в Католическом Университете. Где впервые лицом к лицу встретился он с профессором этики и нравственного богословия, талантливым драматургом и поэтом, молодым еще – сорока, пожалуй, не было – Каролем Войтылой. И экзамен он свой на всю жизнь запомнил. «Фамилия пана студента?» – «Кшыжовский» – «Кем же пан себя видит по окончании университета нашего? Богословом, ученым?» – «Ксендзом, пан профессор, и никак иначе» – «Оно, пожалуй, при такой фамилии[18] и впрямь никак иначе». И не знал, не ведал студентик юный, что профессор, напротив него сидящий, вознесен будет до высочайших высот земных и выше, до высот небесных, став святым Католической Церкви. И став его, студентика юного, судьбою. От темных кудрей до седых волос.
Довольно скоро возведен был прелат Войтыла в епископы, став еще через несколько лет – архиепископом Краковским. Тогда-то и вызвал он бывшего студентика – не забыл! – в Краков, где предложил (а от архиепископских предложений не отказываются!) занять должность помощника при архиепископском секретаре-принципале, прелате Станиславе Дзивише.
С Войтылой и Дзивишем выехал Кшыжовский и на выборы нового папы после внезапной – очень внезапной – смерти Иоанна Павла Первого. «Ненадолго», – сказал архиепископ. – «Недельку от силы, и домой».
Несколько дней подряд из трубы дважды в день вился черный дым, означавший, что папа еще не избран. И вдруг… Огромная толпа на площади святого Петра зашевелилась, заходила волнами, загудела на всех языках, среди которых, конечно, преобладал итальянский:
– Abbiamo il Papa! У нас есть Папа! Папа!
Из трубы клубами валил белый дым. Понтифик избран. Через несколько минут он должен появиться на балконе апостольского дворца. Толпа уже хлынула туда, ожидая увидеть нового папу. Тадеуш не шел, его несло это неудержимое течение человеческих тел и душ. Он видел, как на перила балкона было выброшено бархатное знамя с папским гербом, и вскоре появился новый понтифик, подняв руки и благословляя народ. Люди падали на колени, истово крестились, отовсюду неслось:
– Abbiamo il Papa!
Но молодой прелат из Польши стоял, застыв – как жена Лота, обратившаяся в соляной столб. Ибо на балконе апостольского дворца появился, благословляя народ, не кто иной, как бывший его профессор, и уже бывший архиепископ Краковский.
* * *С того дня и остались все три поляка в Ватикане – Дзивиш и Кшыжовский на прежних должностях, только теперь уже в роли секретарей главы Католической Церкви. Кшыжовский этой официальной должности не имел и был, скорее, техническим ассистентом Дзивиша. Сам же Дзивиш очень быстро стал самым влиятельным человеком в клокочущем от интриг папском дворе, еще с краковских времен будучи ближайшим другом папы, другом настолько близким, что даже кровать его стояла в папских покоях, на расстоянии вытянутой руки от ложа понтифика.
Эх, ваше Высокопреосвященство, пан Станислав! Будь кардинал Дзивиш сейчас не архиепископом в Кракове (по завещанию папы), а, как прежде, всего лишь секретарем-принципалом понтифика, все кровавые игры генерала иезуитов были бы пресечены немедленно. Но… ведь сам Дзивиш и «внедрил» Тадеуша в орден. «Нам (то есть, ему и папе) очень нужны там свои люди», – убеждал он Кшыжовского. Что ж, убедил.
Вот он, Ватикан, средоточие веры, приковывающий к себе умы и сердца сотен миллионов. И вот он, Ватикан, где все следят за всеми, запутавшийся в интригах настолько, что и не понять – какой там век на дворе? Порой кажется, что воскресли кровавые Борджиа – или, пожалуй, и не умирали вовсе.
Тадеуш, Тадеуш, снявши голову, по волосам не плачут. А продавши душу?
Он поднялся со стула и слегка пошатываясь, – но вовсе не от выпитого коньяка – пошел вдоль стены. В небольшой коридорчик, где слева была дверь, ведущая в опочивальню генерала, а напротив нее – такая же резного дуба дверь ванной комнаты. Ее и открыл кардинал. Отделка ванной комнаты и сама ванна были редкого коринфского мрамора, а от умывальника до ванны шла мраморная скамья, на которую Кшыжовский и сел. А сев, достал из глубокого кармана сутаны небольшой флакон, граммов семидесяти. Открыв пробку, он понюхал содержимое – резкий запах карболки: фенол. Кардинал подержал флакон у лица, и уже было поднес его к губам, но, резко отшатнувшись, проговорил:
– Apage, Satanas[19]!
Смертный грех самоубийства – нет, это немыслимо. Он поставил флакон на скамью, стянул с рук черные шелковые перчатки, под которыми тампонами были прикрыты незаживающие благодаря едкому фенолу «стигматы» – кощунственная карикатура на страдания Спасителя. Кшыжовский плеснул немного фенола на тонкий тампон и прижал его к ране на внутренней стороне ладони, закусив губу от боли. Выждав несколько минут, он сделал то же самое с раной на внешней стороне. И затем, перехватив флакон левой рукой, проделал то же с правой ладонью.
Он плакал. Но вовсе не от боли. Человек Веры, он понимал степень кощунства, которое совершает. И, сунув черные перчатки в карман сутаны («перчатки после не надевайте»), тщетно пытался убедить себя, что всё это для большего добра. Ad majorem Dei gloriam. Для вящей славы Божией.
Глава 4
– Подбрось-ка еще пару поленьев в камин, Джеймс, будь любезен, – заполняя последнюю строчку кроссворда, произнес сэр Артур. – Вечер сегодня донельзя промозглый.
– Лондон, сэр, – заметил на это дворецкий, шевеля поленья в камине.
– Знаю, знаю, – махнул рукой МакГрегор, брезгливо отталкивая от себя толстенную газету. – Заметил. Как заметил и то, что ты предпочел бы настоящую зиму, в нашем родовом особняке на Шотландском нагорье.
– Не буду лукавить, сэр, но это действительно так, – с поклоном произнес дворецкий.
– Но вы можете сказать мне, что происходит, мистер Робертсон? – полушутливо вопросил Артур.
– Лондонская зима, сэр, – невозмутимо ответил дворецкий.
Артур МакГрегор махнул рукой.
– Сейчас я не о погоде, Джон. Я об этом. – Он ткнул пальцем в аккуратно заполненный кроссворд. – Это делают идиоты? Или для идиотов? Или и то и другое? Ну сам подумай, кроссворд в воскресном приложении «Нью-Йорк Таймс», считающийся сложнейшим в мире, был разнесен в пух и прах за… – он взглянул на часы, – за какие-то шесть минут!
– Для вашей эрудиции трудно разгрызаемый орешек найти невозможно, сэр Артур, – дворецкий осклабился.
– Да вы льстец, мистер Робертсон, – погрозил пальцем дворецкому Артур. – Бьюсь об заклад, что вы сами разнесли бы этот кроссворд вдребезги минут… скажем… за пятнадцать.
– Позволю себе выразить сомнение в этом, – продолжая улыбаться, покачал головой дворецкий. – Правда, в нашем семействе я был из самых грамотных, однако далее чтения «Библии в изложении для детей» не продвинулся. Не считая, конечно, правил поведения в инвернесской каталажке, откуда вы, ваша милость, меня вытащили до того, как я выучил их наизусть.
МакГрегор отмахнулся от последнего замечания, давая понять, что дело выеденного яйца не стоит.
– Три буквы по горизонтали, – внезапно произнес Робертсон, указывая пальцем на газету, лежавшую на столе.
– И что?