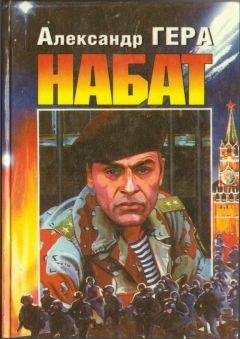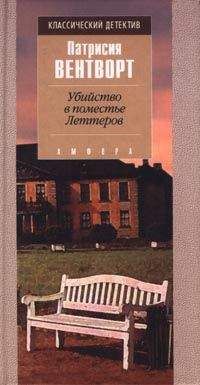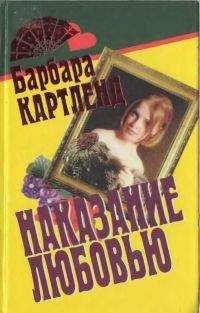Николай Псурцев - Голодные прираки
– Твой натуралистический, и одновременно трагический, и одновременно горький, и одновременно любопытный рассказ произвел на меня большое впечатление, – заметил Нехов, стараясь непринужденно, как бы между делом, очистить белый итальянский ботинок от синего инея. Но ничего не получалось. Иней успел уже превратиться в синий лед и негорным хрусталем красиво обволокнул нерусские ботинки, нежарко. – Брррр, – сказал Нехов, передернувшись всем телом от холода. Кровать закачалась тотчас, а вместе с ней закачалась и безглазая Лена Незабудская, и сам Нехов, и пол под кроватью, и кресла, на которых сидели отец и его брат дядя Слава, и сам отец, и его брат дядя Слава. – И я еще могу понять, что побудило тебя на такой исключительный поступок. Каждый думает о самоубийстве. Но я не понимаю, почему ты до этого зарезала своего мужа и двухгодовалого ребенка, – как рассказывали очевидцы, смышленого и шустрого мальчика? Расскажи, Лена! Не стесняйся. Все свои… – («Что я несу? – подумал Нехов вскользь. – Я-то с какого хрена своим стал?».) Поежился. Покрылся мурашками. Хлопнул себя по груди ладонью, сотню мурашек придавил разом. Остальные испугались-разбежались.
– Вот именно, – усмехнулась бы Лена Незабудская, если б смогла. – Ты-то с какого рожна своим стал. Ни раньше своим не был, во всяком случае для меня, ни тем более теперь, уже для всех, – она посмотрела на всех, все кивнули кивком, кивая. – А я-то уж и просто тебя ненавидела всегда, ненавижу и сейчас. Ублюдок! Тварь! Скотина! Гнида! – задохнулась, если б смогла. – Один только раз мы трахнулись с тобой, один только раз, и этого было достаточно, чтобы я всю жизнь смертельно ненавидела тебя. Ненавидела до такой степени, что в тех, кто был рядом, кто проходил мимо, кто касался меня или не касался меня, видела тебя и только тебя, одного лишь тебя. На экране телевизора – ты. На портрете любимой бабушки – ты. В морозильном отделении холодильника – ты. В птичке за окном – ты. В льющейся из крана воде – ты. В зеркале – ты, опять ты. В муже моем, некогда горячо любимом, – снова ты… Я пыталась найти тебя и безбоязненно и прямо выразить тебе свою ненависть. Но ты был далеко-далеко, мой ненавистный. Я обивала пороги военкомата, требуя послать меня на фронт, туда, где воевал ты. Я должна была, я обязана была сказать тебе, как я ненавижу тебя, как я хотела бы прижать тебя к себе, к своей красивой порнографической груди и душить, душить тебя, мерзавца гадского. Но краснолицые офицеры смеялись надо мной, и грубо заигрывали, и даже пытались лапать потно, ах-ах, ах-ах… И я решила забеременеть. Вынашивая дитятко, беспрестанно смотрела на твой портрет. По-старинному преданию, таким образом древние женщины добивались сходства своих кровинушек с истинным предметом обожа… ненависти, оголтелой, лютой ненависти. Родился мальчик, слава Богу. Месяц прошел, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый – он не похож на тебя. НЕ ПОХОЖ! Хорошо, сказала я себе, подожду. Ждала. Еще месяц, два, три, четыре, пять, – Лена заплакала, если б смогла, – шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать – НЕ ПОХОЖ! Так кого же теперь я могла бы ненавидеть? Кого бы могла, придушивая, прижимать к своей чудной материнской груди? Этого НЕПОХОЖЕГО?! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!… И не выдержало сердце матери, я не смогла его ненавидеть и я стала его ненавидеть! И тогда поняла, что жить так нельзя больше! ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! И зарезала свое зернышко тупым столовым ножом… К чертям собачьим!
– Ай-яй-яй, как нескладно вышло, – посочувствовал Нехов, – ай, яй, яй! Ну хорошо, а мужа, мужа-то какого хрена замочила тем же тупым столовым ножом?
– А чтоб знал, паскудина, чтоб знал…
– Ага… Тяжело было резать металлом-то неточенным, а?
– Ох, тяжело… Но я не ропщу, нет, ведь, собственно говоря, а что легко-то было в той жизни? Ну что? Кран на кухне починить, и то какая морока, а ты говоришь…
– Не знаю, как насчет крана, а на похороны-то мои прийти не трудно было, – сказал, входя в комнату сорокалетний, примерно, мужчина, невысокий, большеголовый, с красными близкопосаженными (кем?) глазами, лысоватый. Мужчина осмотрелся, подыскивая место, где бы пристроиться. Пристроился. Встал возле кровати, вытянувшись, как часовой у Кремля. – Но ты не пришел, – продолжал мужчина с недобрым укором. – А мог бы, но не пришел, а мог бы, но не пришел, хотя мог бы прийти. Ты же ведь мог прийти? Тогда почему не пришел, если мог, а? Мог же, правда? Но не пришел. Это учитывая, что мог, однако не появился на моих похоронах, хотя, вне всякого сомнения, совершенно спокойно, мог взять и прийти – не пришел…
– Кто вы? – прервал его Нехов, влажнея на собственных глазах, будто под душем находился, пущенным на всю душевую катушку. Нехов булькал и истекал пахнущей хлоркой жидкостью, по виду напоминающей воду, обыкновенную, канализационную.
– Как? Ты не помнишь меня? – искренне– удивился мужчина, сажая близкопосаженные глаза далеко (так вот кто их сажает). – Мы вместе учились на, «четыре» и «пять» в первом классе, в первой четверти. А потом мы с родителями переехали в другой город, и я стал там тоже учиться на «четыре» и «пять»… И ты меня не помнишь? Ну, ты подонок, подонок!…
– Позвольте… Но я даже не знаю вашей фамилии и имени, и тем более не знал, что вы умерли.
– Мог бы узнать. Это не так сложно. Позвонил бы ко мне домой, и тебе сообщили бы, когда похороны.
– Но я даже не имел понятия, где вы живете? В каком городе!
– Мог бы обзвонить все города нашей великой Родины и узнать, в каком из них я прописан, а узнав, позвонить ко мне домой, где бы тебе и сообщили, когда мои похороны. Это просто. А ты не сделал этого. Не люблю тебя, не люблю!
– Но я даже не знал, что вы существуете! Я не помню вас в первом классе, потому что я сразу пошел во второй!
– Ну и что?! А мог не полениться и узнать, существую ли я или уже существовал, или, может быть, еще буду существовать, а также узнать, как меня звали, зовут или еще назовут. А узнав, обзвонить все города нашей многострадальной Родины и выяснить, в каком городе я прописан. А выяснив, позвонить ко мне домой, где бы тебе и сообщили, когда меня хоронят. Так поступил бы каждый порядочный человек! Не люблю тебя! Не люблю!
– А уж как я не люблю тебя, это мало кто знает. Лишь двое, я и я! – сказал, входя в комнату, нестарый, но и немолодой мужчина, в просторном полотняном костюме, в белых тапочках, в вышитой украинским узором рубахе, в соломенной шляпе, надетой почему-то на голову, которая, в свою очередь (голова), обладала лицом пламенного борца за революционные идеалы. – В тридцать восьмом, когда ты понял, что ты враг народа и за тобой скоро придут, ты написал на себя анонимку. Но адрес указал не свой, а мой, Меня арестовали вместо тебя. И расстреляли, конечно, после чего я стал нежив. А ты, воспользовавшись моим именем и наработанным годами авторитетом среди самых широких слоев трудящихся, сделал головокружительную от успехов карьеру. Пользовался черным автомобилем, трехэтажной дачей, еженедельным пайком, отличной медициной и лучшими курортами Франции… Хотя всем этим должен был пользоваться я и я, я и я, я и я, я и я, я и я.
Нехов почувствовал, что его нежная привязанность к себе стала приобретать патологическую форму, и он сказал строго:
– Вы ошиблись номером, гражданин. Я родился на пару десятилетий позже того, как вас подвергли высшей мере социальной защиты – великому РАССТРЕЛУ!
– Извиняйте, именем революции! – сказал мужчина и вышел из комнаты. Вон. Оп-ля!
– Нет тебе прощения, а тем более извинения за твое безобразное ко мне отношение, – сказала, входя в комнату, молоденькая, хорошенькая, полногубенькая, большеглазенькая, большегруденькая, длинноногенькая, короткоюбочная, тонкошпилечная и порочненькая, ах, какая порочненькая женщина. Она указывала на меня острым пальчиком и повторяла: – Нет тебе прощения. Нет тебе прощения… Ты перестал пускать меня в свои сны и, соответственно, перестал трахать меня сладко и спермообильно. Как ты можешь не пускать свой идеал, свою мечту? Или ты превратился в машину, в робота, и твой член теперь откликается только на команду «Смирно!»? А я так истомилась, так иссочилась. – Женщина медленным движением потянула короткую юбку наверх, приоткрывая тонкие белые трусики на загорелых бедрах, и кончиком языка принялась старательно ласкать свои яркие влажные губы, светлые глаза черными ресницами и сверкающими веками полузакрыв, шептала: – Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мною мчалось, ну и так далее… – Сунула руку под трусики, пробежала ловкими пальчиками по горячему клитору, простонала: – Ааааа! Ууууу! Ааааа! Ееееее! Ииииии! Ооооо! Ууууу! Эээээ! Ююююю! Яяяяяя! Ведь я моооогуууу уйти и в еще чей-нибудь соооон! Помни! Кончааааааююю!! Аааааа! Ееееее!…
Нехов почувствовал, что член его задиристо дернулся и с отчаянной решимостью и быстротой стал набухать и расти, брюки натягивая туго и трескуче; вдоль ноги кипящий, жесткий, протянулся, толстым концом под носок пробрался, попытался в ботинок себя впихнуть с нечленовой силой и упорством, оттаявший, дымящийся, Нехов выгнулся, закрыл глаза – веки скрипнули, понял, что кончит сейчас. И испугался вдруг. Как в детстве во сне, когда поллюция подступала неотвратимо. ОД желаешь ее страстно и пугаешься одновременно острой новизны ощущения.) Так. И когда член долесекундно замер, раскаленно-обжигающий, в преддверии бесстыдно исступленного, созидающе-разрушающего прыжка, через мгновение готовый выплеснуть из себя густой белый, дурманящий неземным ароматом огонь, Нехов заорал, до черной крови разрывая свой единственный рот: