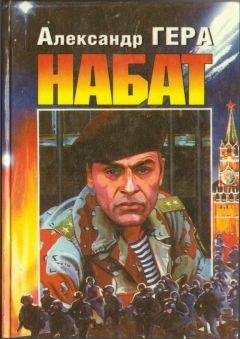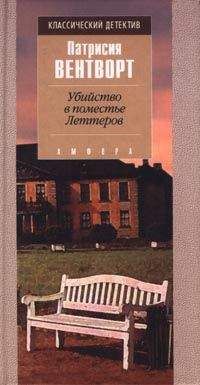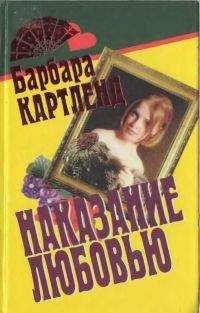Николай Псурцев - Голодные прираки
– Прости меня. Тогда прости меня. Я понял тебя. Как жаль, что ты сказал мне все это только теперь, когда тебя уже нет и никогда не будет. Никогда. Если бы ты рассказал бы мне все раньше, как счастливы мы были бы. Но жизнь не предполагает сослагательного наклонения. В жизни существуют только понятия «есть» или «нет» и никогда «если бы». Я благодарю тебя, что ты хотя бы сейчас открыл мне мои глаза, открыл мое сердце, помог мне возродить давно исчезнувшее у меня ощущение долгой и радостной дороги жизни, ощущение перспективы моего бытия. О, как я был не прав, папа!
– Х-ха-ха… х-хе-хе-хе… И ты поверил, дурачок! Сейчас бы я тяжело вздохнул, если бы умел. Как с вами просто. За прожитые годы я здорово научился притворяться, лицедействовать, дурить людям головы, пускать им пыль в глаза. Я, видно, обладал даром манипулировать их сознанием, создавать выгодные мне ситуации. Я владел дьявольской энергетикой. Но так и не воспользовался предоставленными мне природой и опытом возможностями. А мог бы с их помощью достигнуть многого, МНОГОГО. Я знаю. Не достиг. И знаешь, почему? Не хотел. После твоего рождения не хотел ничего… Совсем ничего.
– Господи, и все-таки это так…
– Так! Так! Так! И не любил я никого и ничего. Не мог. Не способен. Такой уродился. Такой… Как прискорбно,, что тебя так легко провести. Ты же все видел и, наверное, понимал. Почему я пил? Почему в загулы уходил недельные? Почему прежде чем домой идти, в автомобиле часами сидел, недвижный и печальный…
– Я видел, я помню. Ты сидел НИКАКОЙ. Тебя не было, хотя ты был… Мне так хочется, чтобы ты любил меня, папа!
– Никакой… Верно… И самое страшное, что я только сейчас смог разобраться в себе, что, почему, как. А тогда даже и не пытался. Не умел. Даже и мысли такой не возникало – разобраться… Я был уверен, что не живу, а доживаю.
– Я люблю тебя, папа.
– Прости, но я не смогу ответить тебе…
– А я вот могу ответить и отвечу. Я всегда любил тебя, милый, и больше, чем детей своих пьяных и внуков, ничем не примечательных. – Это в комнату вошел старший брат отца, дядя Слава. Он умер одиннадцать лет назад, но выглядел неплохо – на свои восемьдесят. Он был в солидном костюме из тяжелого темного материала, в белой рубашке и в сером обезличивающем галстуке. На обеих сторонах его пиджака блистали медали и ордена, роскошно-богатые, наши и не наши, много, до пояса и ниже. А над всеми над ними с левой стороны желто светилась, завораживающе, золотая звезда Героя Социалистического Труда, маленькая, изящная, Дядя Слава почти тридцать лет был председателем очень важного оборонного комитета, входил в правительство, имел трехэтажную дачу в Раздорах, на которой Нехов провел свое детство и отрочество, большую черную машину и много всякого другого, чего остальные не имели, но очень хотели, но не могли, потому что были не такие умные, как дядя Слава и ему подобные. Свою революционную, военную и политическую деятельность дядя Слава начал еще в гражданскую. В девятнадцать лет он имел мандат на право расстрела без суда и следствия по своему усмотрению кого угодно – и тех, и других, и иных, и всяких. Он никогда не рассказывал, воспользовался ли он этим правом и сколько раз. А в газетах об этом не писали. Но все равно, независимо от того, застрелил он кого-нибудь по своему усмотрению или нет, это право, данное ему в девятнадцатом, видимо, отложило отпечаток на всю его последующую жизнь – он был тихим и всеми любимым, и привилегиями пользовался, плача от стыда. Но пользовался, как и все члены его семьи, как и Нехов в том числе. Другого нет у нас пути, в руках у нас сосиска…
Лицо его очень походило на отцовское, но выглядело более сытым. А во взгляде таились настороженность и неуверенность. Пуля в нем застряла, не долетевшая до кого-то в девятнадцатом или не добравшаяся до самого дяди Славы в тридцать седьмом.
– Розыгрыши на священную для всего мирового человечества тему любви – это, видно, у вас фамильное, дорогой мой дядя Слава, – сказал Нехов, отмахиваясь руками и ногами от покойного дяди. Шнурки на итальянских ботинках развязались и развевались теперь в безветрии, как ленточки снежных парадных бескозырок у матросов разных морей. С ладоней капал пот, и уже залил полкровати, соленый на ощупь, теплый на вкус. Лежать неприятно – под задом мокрит, но Нехову нравится, когда неприятно. – И поэтому позволь мне тебе не поверить, чтобы не вызвать у тебя такую же бурю возмущения, какую у отца, совсем недавно вызвали мои слова о том, что я верю ему, что хочу верить и что без этой веры мне нехорошо, что меня мутит… Но мы не в самолете и рядом нет гигиенического пакета… О, дайте, дайте мне пакет, полбанки за пакет!…
– О, о, о, о! – Дядя Слава кривлялся перед Неховым как перед зеркалом. – Не верит он! Смотри ты, какой! Не верит, мать его!… А ты верь!… Взойдет она, и на обломках.,, все пишут, пишут наши имена… Не верит! А кого мне любить-то было? Детишек своих, с малолетства водку трескающих? Пробовал. Не вышло. Кроме блевотины, ничего больше не вышло. Или жену свою толстозадую за ее малый рост, малый рост?… Или за умишко ее воробьиный? Или внуков своих, дурковатого Сашеньку и злобную Машеньку, только и умеющих, что денежки от меня отсасывать? Ну?! А в тебе я сразу стерженек личностный разглядел, в малолетке еще, в людях-то я разбирался, не откажешь, – но виду не подавал, ты прав, почему? А хрен его знает. Стеснялся, наверное. Как так, племянника, мол, больше детей, а потом и больше внуков любить, не хорошо как-то, не по-людски… Во дурак! Когда тебе года два было, я тебе комбинезончик из Китая привез, ты не помнишь уже, конечно, ладный такой– комбинезончик, добротный, яркий. Подарил. Радовался, когда видел, как ты радовался. Из следующей поездки, когда ты уже подрос, опять комбинезончик привез, красивый такой, модный, но уже размером побольше гораздо. Не подарил. Заробел. Боялся, что жена шипеть начнет, дети осколками водочных бутылок вены резать, а внуки ревновать и планы изощренной мести вынашивать. А потом еще машину привез, большую уже, игрушечную классную, спрятал ее в подвале на даче, как и комбинезончик… Так и возил тебе каждый год комбинезончики и машины игрушечные. Комбинезончики все больше размером были и машины тоже увеличивались. Последнюю игрушечную машину таможня пропускать не хотела. Ужаснулась ее размерам и цене, гораздо большей, чем цена автомобиля настоящего… Комбинезоны и машины аккуратно на даче в подвале складывал, в специальный тайник секретно-укромный, большой и вместительный, никому неизвестный, никогда и нипочем. Частенько спускался в подвал, любовался комбинезонами, примеривал их, красовался перед зеркалом, себя тобою представляя, часами в машины играл, радовался, когда видел, что радовался.
– Вам повезло, Вячеслав Андреевич, вы тихо умерли, спокойно, во сне, раз и нету. А я вот умирала в муках страшных, в слезах, с криками, душу мою леденящими и влагалище и лицо, а также много других частей тела и внутренностей, – сказала, входя в комнату и садясь на краешек постели (Нехов невольно подобрал ноги в расшнурованных итальянских ботинках, но они все равно тотчас инеем синеватым покрылись тонко) Лена Незабудская, погибшая год назад, на второй день после того, как Нехов прилетел в Москву в отпуск. – Веревка мне попалась шершавая, грубая, а я от волнения естественного забыла намылить ее, не предусмотрительно, короче, поступила, и поэтому, когда я легко, грациозно и почти невесомо спрыгнула с табуретки, на которой стояла, и на мгновение застыв в воздухе в изящном пируэте и затем полетев вниз, обрушилась на суровую веревку, петля не затянулась до конца. И я, бедная, повисла на подбородке, а петельный узел, по-видимому, застрял где-то на уровне затылка. Больно. Страшно. Душно, Но никак не смертельно, никак, никак, как-как-как, как-как, как-как… Я пыталась подтянуться на веревке руками. Но руки у меня слабенькие были всегда, да и к тому же обессилели теперь от волнения и от шока, вызванного начинающимся удушением. Я сучила ногами, я дергала грудями… Они у меня большие, сочные, соблазнительные, и очень красивой порнографической формы… Дергала я также своим аккуратным кругленьким задиком, а также другими частями тела и иже с ними и, разумеется, внутренностями. Но бесполезно. Так и мучилась, пока глаза не вытекли, а язык сквозь нижние и верхние зубы котлетным фаршем не полез, ах-ах, ах-ах!
– Твой натуралистический, и одновременно трагический, и одновременно горький, и одновременно любопытный рассказ произвел на меня большое впечатление, – заметил Нехов, стараясь непринужденно, как бы между делом, очистить белый итальянский ботинок от синего инея. Но ничего не получалось. Иней успел уже превратиться в синий лед и негорным хрусталем красиво обволокнул нерусские ботинки, нежарко. – Брррр, – сказал Нехов, передернувшись всем телом от холода. Кровать закачалась тотчас, а вместе с ней закачалась и безглазая Лена Незабудская, и сам Нехов, и пол под кроватью, и кресла, на которых сидели отец и его брат дядя Слава, и сам отец, и его брат дядя Слава. – И я еще могу понять, что побудило тебя на такой исключительный поступок. Каждый думает о самоубийстве. Но я не понимаю, почему ты до этого зарезала своего мужа и двухгодовалого ребенка, – как рассказывали очевидцы, смышленого и шустрого мальчика? Расскажи, Лена! Не стесняйся. Все свои… – («Что я несу? – подумал Нехов вскользь. – Я-то с какого хрена своим стал?».) Поежился. Покрылся мурашками. Хлопнул себя по груди ладонью, сотню мурашек придавил разом. Остальные испугались-разбежались.