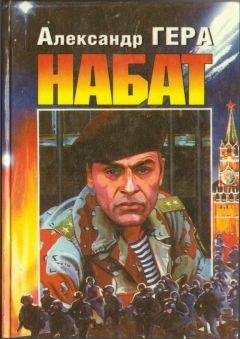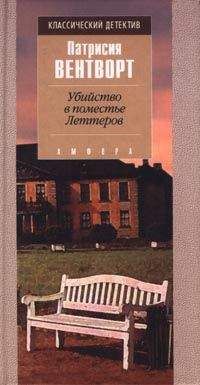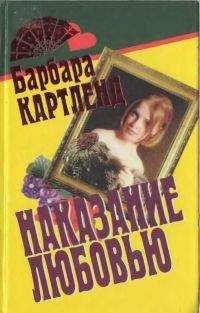Николай Псурцев - Голодные прираки
Нехов привстал медленно, голову вперед на загорелой шее тянул, пристально без испуга всматривался в отца, решая, сон ли, явь ли, вспоминая, откуда у отца этот длинный, просторный мятый плащ, не он ли сам его подарил отцу на день рождения и дарил ли он, вообще, что-либо отцу на день рождения, и ответил, не решив ничего:
– А был ли прошлый раз? Отец пожал плечами:
– Был не был – тебе судить, так, наверное?
– Наверное… – неопределенно отозвался Нехов, спустил ноги с кровати, сел к отцу боком, правым, раздумывая, а не повернуться ли левым. – Ну, тогда… – почесал бровь, поймав себя на том, что хотел почесать ресницу, – тогда, мы остановились на моем рождении, – усмехнулся, головой качнув, в пол глядя.
– Ты родился, – сказал отец.
– Ну? – не понял Нехов.
– Что ну? – А дальше что?
– А дальше ты вырос.
– И это все?
–А потом ты умрешь.
– Господи!…
– А что ты хотел?
– Все…
– Хорошо, – просто согласился отец. – Я расскажу тебе все. Начнем с того, что скука, всегда одна только скука была моей подругой в этой жизни, верной подругой, хотя я ей иногда и изменял, ха-ха, с водкой, коньяком, изредка с портвейном, а до этого со спортом, четыре года с войной…
– Я твой сын! Точно! – перебил Нехов отца, ухмыляясь и подмигивая кому-то, может быть, даже чему-то на стене или импортным красно-желтым обоям.
– Хорошо, – сказал отец, мимо дня глядя, мимо ночи, мимо слов и мимо мыслей. И глядя только в Нехова. Только. Даже так, заглядывая в него, как заглядывают в микроволновую печь, чтобы проверить, работает ли, не брак ли, горит ли… Ли? Кристофер Ли, Брюс Ли, Ли Марвин, китайчонок Ли. – Как только ты родился, вот прямо в ту же секунду я постарел, хотя мне было всего тридцать шесть, потяжелел тотчас, съежился. Начал годочки считать, сколько осталось, и осталось ли, Джанет Ли, До рождения твоего ведь мальчишкой жил, мальчишкой.
– Ну, теперь все понятно, – усмехнулся Нехов, о белый пододеяльник итальянский каблук вытирая. Каблук чернел на глазах.
– Что понятно? – голос отца не выражал ничего. Он ничего не выражал и до этих слов. Ничего не будет выражать и после. Ничего.
– Твое отношение понятно.
– Я плохо к тебе относился?
– Ну, не то чтобы очень, но не так, как хотелось бы все же. И мне ясно теперь, почему. Резкую потерю жизненного тонуса, ощущения радости и, более того, необходимости жить ты невольно связывал со мной, с моим рождением. И, конечно же, должен был ненавидеть меня. Жестоко, смертельно…
– Я любил тебя.
– Да, да, ты вел себя героически. Верно. Я знаю. Вместо того чтобы метелить меня ежечасно, ремнем, поленом, кулаком, мокрой веревкой, форменным ботинком, а в один прекрасный день и вовсе выкинуть меня из окошка шестого этажа, с глаз долой подальше, и зажить после этого нормальной прежней жизнью, ты стоически сдерживал себя, мирился с моим существованием, сдавливая многопудовый стон, и даже говорил со мной иногда и иногда помогал мне в моих маленьких детско-юношеских проблемах. Давал денежку, улыбался, улыбался… И это действительно подвиг…
– Я любил тебя.
– Ох, не надо, будто я не помню.
– Ты дурак.
– Вот!
– Что, вот?! – Любимых людей не оскорбляют.
– Бред!
– Хм, хм… – Ты маньяк!
– Ладно. Допустим, ты любил меня. Ну так и в чем же твоя любовь выражалась? – Идиотский вопрос!
– Вот опять, я аплодирую!
– Что, опять?
– Разве так разговаривают с любимыми людьми?
– По-разному разговаривают.
– Не знаю, не знаю.
– Конечно, не знаешь. Ни хрена. То есть вообще ни хрена.
– Видишь ли, я бы все равно стал тем, кем стал, и таким, каким стал. Это не зависело от того, как ты ко мне относился. Ни родители, ни сестры и братья, ни учителя, ни старшие сержанты, ни милиционеры, ни члены правительства, ни продавцы, ни работники метрополитена, ни слоны, ни кошки, ни жены, ни любовницы не способны повлиять на ту главную суть человека, с которой он родился, она запрограммирована заранее в его клетках, генах или в неизвестных еще нам материальных или нематериальных структурах человеческого организма. Это я понял и осознал. Это так. Я уверен. И поэтому мне наплевать, любил ли ты меня или нет. Это ничего у меня не убавило и ничего мне не прибавило, просто любопытно, поверь, просто любопытно, в чем же все-таки выражалась твоя любовь?
– Как рассказать тебе?… Что рассказать тебе?… Прости, я растерялся. Не думал никогда об этом. Ну, хорошо… любил… Ты хочешь знать! Тревога. Страх. Волнение. Радость. Вот четыре составляющих любви. Наверное… Я переживал, когда ты болел маленький, когда болел взрослый. Ты часто болел. Я волновался, стоя у окна, у входной двери, и на балконе, прислушиваясь к уличным звукам, когда ты не приходил вовремя домой. Тревога терзала меня, когда ты поступал в институт, когда ты ушел с первого курса, когда ты устраивался на работу, когда поступал в институт во второй раз. И я помогал тебе. Ты помнишь? Помнишь?! Должен помнить! И еще я очень радовался, что ты такой умный и красивый. Искренне. Я приучал тебя к спорту. Я не запрещал тебе, как мать, встречаться в девицами. Ну, что еще? С работой помогал. Устраивал туда, куда ты хотел. Так? Ну, что еще?! Когда ты женился, достал тебе квартиру. Ну, это ль не любовь?!
– Ты был человеком с обостренным чувством долга, ответственности. Я помню. И поэтому ты жил бы дискомфортно, если бы не делал всего этого.
– Называй, как хочешь, мое отношение к тебе, хоть паранойей, суть одна.
– Ты никогда не давал мне свой автомобиль, даже когда я просил об этом на коленях и со слезами.
– О чем ты, Господи? Ты и вправду маньяк.
– И все же, все же…
– Машина – это любовница, и я не хотел делить ее ни с кем. Это мое второе я, альтер эго, ты мог бы понять и простить…
– Ты никогда не покупал мне вещей, о которых я просил: джинсов, курточек, дубленок, хотя деньги у тебя были, были, я знаю. Ты хорошо зарабатывал в те времена – начальник отдела в генштабовском главке, полковник.
– Дурацкие претензии.
– Вот опять. И я снова аплодирую!
– Мы жили от зарплаты до зарплаты. А частенько я тайком от сослуживцев ходил в финчасть и просил, унижаясь, выдать мне зарплату раньше срока.
– Куда же вы девали деньги? Ведь мама тоже работала.
– Тратили.
– На что? Почему я не видел, на что вы тратили? За машину вы давно расплатились… Копили? Так где же они, накопления? Или ты содержал вторую семью? Я подозревал…
– Чушь! Не смей так говорить! Не смей это говорить!
– Так. Поговорим о другом. Однажды, мне было уже двадцать три года, я встретил на улице девчонку, с которой познакомился летом на юге. Ей негде было ночевать. Хорошая девчонка, правда. Не блядь, не путана. Обычная симпатичная девчонка из провинции, И я привел ее домой, попросил, чтобы она переночевала у нас одну ночь, всего одну ночь, она уезжала на следующий день. И ты выгнал нас с жестоким равнодушием. Или с равнодушной жестокостью. Называй как хочешь!
– Если и все последующие твои упреки сводятся к такой ерунде, то мне жаль тебя! Ты так ни черта и не понял!
– А еще…
– Хватит! Ты болван! Параноик!
– Вот опять. И я аплодирую в который раз!
– Сколько влезет.
– И все же, все же, может, мои слова и кажутся глупыми, да, наверное, так оно и есть, и все же я чувствую, что ты жил с нами, нет, не с нами, рядом с нами, так будет верней, ты жил нехотя и с раздражением, чувствую, чувствую, жил в силу инерции, что ли, без эмоции, кляня себя за слабость, потому что не решался разом вес разорвать.
– Зачем тебе это? Зачем?
– Но вернемся к началу. Ты говорил, что после моего рождения ты ощутил себя стариком, хотя тебе было всего тридцать шесть.
– И ощутил, и понял, и осознал. И еще ко мне пришло четкое и ясное убеждение, что теперь я буду не жить, а доживать.
– Страшное убеждение,
– Еще бы.
– И до самой смерти это убеждение владело тобой?
– Оно жило во мне. Оно росло с каждым часом.
– И могло привести к суициду, как часто и бывает?
– Не привело, к счастью. Или к сожалению.
– А еще ты говорил, что до этого момента ты чего-то хотел в жизни. Или от жизни. А после уже не желал ничего. Совсем ничего?
– Совсем.
– Так как же все-таки потерю желаний можно совместить с любовью ко мне. Не понимаю.
– Элементарно. Именно любовь и держала меня на этом свете. Не желания, не цель. Любовь.
– Не понимаю.
– Я объясню. Безудержный порыв вперед к достижению цели, к преодолению преград, возникаемых объективно или создаваемых самими нами, работа, занятие делом, делом, приятным или неприятным тебе, но профессионально, постоянное желание смены ситуаций и обстоятельств, стремление к качественному изменению психики, сознания, с помощью пограничных ситуаций, риска, географического перемещения, секса, алкоголя, наркотиков – все это гонит время, а ЛЮБОВЬ – останавливает его. Остановить время и жить, вернее, кайфовать в нем, остановленном, – не это ли мечта каждой человеческой особи на протяжении миллионов лет, с момента возникновения человечества и по сей день? И я тоже мечтал об этом. И моя мечта исполнилась. Я жил в остановленном времени. Потому что я любил. Тебя, Любил твою мать, свою жену. Ее я потом, кстати, любил гораздо больше, чем тогда, когда познакомился с ней. Она была красавица, да. Я добивался се. Упорно и страстно, несмотря на ее равнодушие, несмотря на непримиримую враждебность ее родственников. Но полюбил я ее только после твоего рождения. Истинно. Без всяких там поцелуйчиков и лизаний и обнимашек. Но так же сладко, как и себя. Как голос свой, как мысли свои, как обоняние свое, как осязание свое, как запах, мной испускаемый. Ну, что еще… Любил я и свой автомобиль. Пальцы пылали, когда я брался за руль. Замирал от детского восторга, когда искра поджигала бензиновый дух, когда двигатель с покорностью отзывался на малейшее движение ноги… Любил свой мундир, сшитый на заказ, скроенный с учетом каждого бугорка, каждого изгиба фигуры, подогнанный под биение сердца солдата. И тормознулось время, будто кто там наверху и педалью и ручником одновременно бешеные колеса заклинил. Попробуй сам. Увидишь…