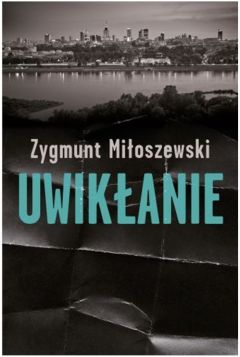Зигмунт Милошевский - Доля правды
— Ну что вы, ксендз, все бы вам шутки шутить.
— Из-за таких вот шуточек снова придется отдавать сутану портному. А тут надо бы скорее похудеть, туристы приезжают, хотят на отца Матеуша взглянуть, а не на какого-то там толстяка.
— Да что вы такое говорите? Вы хорошо выглядите.
— Слишком хорошо.
— А что вы, ксендз, думаете, обо всей этой пачкотне, снова шум в соборе поднимается.
— Ой, поднимается-поднимается. Я даже, пани Анеля, вот что об этом на днях подумал: мы должны учиться на картинах этого Прево, ведь каждое убийство, каждая ненависть и каждый оговор — это всегда плохо, и мы должны этого остерегаться. Любой фанатизм плох, любая прикраса плоха, даже если кто-то прикрашивает с добрыми намерениями.
— Красиво, ксендз, говорите.
— Конечно же есть масса истолкований картины. И сдается мне, что говорит она о важной на сегодня проблеме абортов, ведь в старые времена такая проблема тоже существовала, и будто бы они умели делать аборты.
— Кто? Евреи?
— Неизвестно, евреи ли или еще кто, но только им подбрасывали младенцев уже после аборта.
Пан Станислав, меж друзей именуемый Стефаном, будучи дипломированным экскурсоводом, двадцать три года проводил экскурсии по Сандомежу. В данный момент он заканчивал ужин в ресторане гостиницы «Башня». Пригласили его бухгалтеры некой строительной фирмы, которым он весь день показывал свой любимый город.
— Может, я, конечно, и староват, но до войны я не жил и, как там на самом деле было, понятия не имею. Но если рассуждать логически: в Польше да и в мире масса всяческих сект, верно?
— Верно.
— И в сектах этих — нам ведь по телевизору показывают — случаются самоубийства, случаются также и убийства. Верно?
— Верно.
— Сатанисты, к примеру, и прочие. То есть если разобраться логически, то в истории могли ведь существовать и различные еврейские секты?
— Ну, могли.
— И такие секты могли страшные дела творить?
— А то как же.
— Вот тут-то, видно, и собака зарыта, и на картине запечатлена память о таковых страшных делах.
Пани Хелена, как и все старые жители города, знала евреев не только по деревянным фигуркам, которые теперь продавали в сувенирных магазинах. В этот один-единственный день пани Хелена перестала быть обузой и стала авторитетом, который знает, как оно бывало в старые времена. А она, как и большинство тех, что жили в довоенном польско-еврейском городке, никаких бочек не помнила, зато в памяти у нее осталось, как они в теплые денечки все вместе загорали на берегу Вислы. Об этих теплых денечках и думала она, когда внизу внучка спорила со своим мужем.
— Сильвия говорит, что не посылает, зачем рисковать. Пусть ребенок дома посидит, тогда ничего с ним не случится. Ты ведь знаешь, какая тут легенда.
— Может, бабульку спросим, она-то ведь помнит, как там до войны было с еврейчиками.
— Точно, пойдем наверх. Только, Рафал, не говори «еврейчики», это просто отвратительно.
— А как же мне говорить? Иудеи?
— Говори без этой уменьшительной формы… осторожней на последней ступеньке… Ба, ты спишь?
— Я свое уже отоспала.
— А вы у нас, бабушка, цветете, как я посмотрю.
— Скорее отцветаю, Рафал, дай поцелую тебя, любимый зятек мой внучатый.
— Не балуй его, ба. А ты помнишь, как до войны было?
— Намного лучше. Кавалеры на меня оглядывались.
— А евреи?
— Ба! Самые лучшие из евреев, Мосек Эпштейн, вот уж кто был гладок.
— А что тогда говорили, помнишь? Потому что теперь тоже говорят. Как там с кровью было дело, будто детей похищали?..
— Болтовня все это, и тогда тоже языком трепали. Помню, подружка у меня была, не больно-таки смышленая. Пошла она однажды в воскресенье в магазин, мать ее за чем-то послала, а магазин был еврейский. Потому что у нас в те времена было так: поляки открыты в субботу, а евреи — в воскресенье, и все довольны.
— И эта подружка…
— И эта подружка пошла в воскресенье в магазин, а поскольку из костела вышла процессия, еврейка дверь-то и прикрой, чтоб не колоть глаза. И эта подружка — даже не помню, как ее звали, Крыся, кажется, — как это увидала, как начала криком кричать, мол, ее на мацу хотят украсть. Шуму-гаму, но как раз в том магазине мама моя была, она-то и спасла положение, дала Крысе подзатыльник и отвела домой. Но визг был такой, на всю округу, что полгорода поверило. И маца такая, и похищение детей — все это глупость и неправда, даже говорить не хочется.
— Но в костеле-то висит. Если неправда, наверно, бы сняли.
— А что, в костеле всё — чистая правда? Рафал, ты хоть подумай своей головой.
— Но разве до войны поляки с евреями ладили?
— Можно подумать, что поляки с поляками ладили? Вы что, молодежь, вчера из-за границы приехали? Разве поляки умеют с кем-либо ладить? Я вам другое скажу: я жила по одну сторону Рыночной площади, а по другую — еврейская семья, и была у них дочка в моем возрасте, звали ее Маля. А я ангиной часто болела и дома одна сидела, подружки неохотно ко мне приходили, чего там тратить время понапрасну. А Маля приходила всегда. И я всегда говорила: «Папочка, позови Малю, буду с ней играть». Маля весь день сидела со мной, и мы играли. Я ее так хорошо вспоминаю.
— А что с ней случилось?
— Не знаю, уехала куда-то. Ну, идите уже. И подумайте немного, говорю вам, глупость такая, слов жалко. Кровь для мацы…
Едва молодежь вышла, бабушка, Хелена Колышко, натренированным за многие годы жестом вынула из тумбы буфета сложенный кусок газеты — он ей служил вместо запора — и, выудив бутылочку «Наливки бабуси», до половины наполнила лежащий в пластмассовой корзиночке стакан. Опрокинула его заправски — ведь свою первую рюмочку пропустила она на свадьбе у кузины Ягудки в 1936 году, а тогда ей только-только стукнуло шестнадцать. Вот это была свадьба! Она тогда впервые поцеловалась с парнем, а май был такой славный, такой теплый. Мама Ягудки держала магазин и хорошо уживалась с евреями, а на свадьбе все смеялась, дескать, в соборе «поляков стояло немного, евреи весь запрудили». А когда процессия свадебных гостей проходила по городу, то все еврейки высыпали из домов с пожеланиями: «Ягудка! Чтоб жизнь твоя светилась ясно!» А они, держась за руки, шли себе с Малей и громко смеялись, а цветов было столько, что казалось, будто расцвело каждое деревце в Сандомеже.
Но Маля уехала. Вспоминая, бабушка Колышко махнула наливку до дна. Она помнила, как уезжала подружка. Доктор Вайс тоже тогда уехал, тот, что с самого детства лечил ее ангину. Очень он восхищался немцами, мол, культурный народ, в жизни ничего плохого евреям не сделают. Отец бабушки Колышко уговаривал его: «Пан доктор, только не подписывайте, только не сознавайтесь». А он свое: «Да что вы, право слово, немцы — народ культурный». Говорят, в Двикозах отравился на платформе. Не вошел в вагон, решил умереть именно таким образом. Она видела из окна, как его ведут, страшно плакала, потому что очень привыкла к доктору, а доктор в их окна так смотрел, так смотрел, словно проститься хотел, но мать не пустила. Потом шла пани Кельман с близнецами, четырехлетними куколками. Немец застрелил одну из них, так под их домом девочка и осталась. Что за люди, что за народ такой, стреляет, когда ребенок плачет, мать держит малого ребенка, а этот подходит и стреляет. Вечером вернулся отец, сказал, что столько собралось знакомых, хотели хоть кого-нибудь спасти, хоть кому-нибудь руку подать, вырвать из толпы, но никакой возможности не оказалось — всех оцепили.
А Маля уехала. Говорили, что все они были в Двикозах, что она споткнулась и через ров не перепрыгнула, немцы его выкопали напротив станции, чтобы проверить, кто сильный, кого можно взять на работы. Но ведь невозможно, чтоб Маля не перепрыгнула, она была ловчее всех.
Никогда больше у нее не было такой подружки.
8Когда его высадили у калитки и пожелали доброго вечера, он чуть было не вцепился им в горло. Скоты, жалкие скоты из низов, ублюдки, деревенщина. Прокурор тоже хорош. Путать гомиков от соцреализма! Да и чему тут удивляться, поди, в избе у него только трилогия и стояла[108].
Он вошел в дом, бросил куртку на вешалку и, не зажигая света, налил себе полстакана «Метаксы». У него была слабость к приторному греческому бренди. Сел в кресло, закрыл глаза. Не прошло и пяти минут, как выл белугой. Он знал теорию, знал, что все еще пребывает в фазе неверия[109], но иногда сквозь неверие, сквозь убежденность, что все это лишь игра, обман, и как только закончится спектакль, все будет как прежде, — нет-нет да и пробивалась доводящая до потери сознания чудовищная боль. Тогда на него обрушивалась волна воспоминаний, перед глазами вставали картины последних месяцев, их самые счастливые минуты и, пожалуй, самые счастливые минуты его жизни. Эли пьет кофе, рукав свитера натянут на ладонь, чтоб не обжигал стакан. Эли читает книгу, ноги забросила на спинку дивана. Эли накручивает волосы на палец. Эли купается, волосы в пучок, голова покоится на подушке из пены. Эли шутит. Эли болтает. Эли кричит на него. Эли, Эли, Эли.