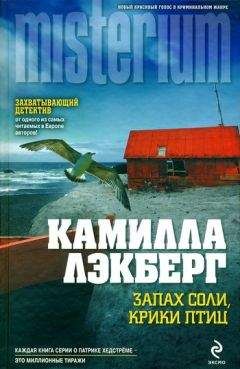Камилла Лэкберг - Железный крест
— Мы как раз сейчас едем к нему в Уддеваллу. Но если вы что-нибудь вспомните… — Мартин быстро записал на бумажке номер своего мобильника. — Если что-нибудь вспомните, обязательно позвоните.
Аксель аккуратно вложил листок в органайзер.
И Паула, и Мартин на обратной дороге молчали, но думали об одном и том же. Не пропустили ли они чего-то? Правильно ли сформулировали вопросы? Ответа никто не знал.
— Больше откладывать нельзя. Она не может оставаться дома. — Герман посмотрел на дочерей с таким отчаянием, что они невольно отвели глаза.
— Мы знаем, папа… Все правильно, альтернативы нет. Ты заботился о маме до последнего, но… сейчас это просто становится опасным. Мы постараемся найти самое лучшее место. — Анна-Грета зашла за спинку отцовского кресла, положила руки ему на плечи и слегка вздрогнула — так он похудел.
Болезнь матери сказалась на нем больше, чем они думали. Или хотели думать. Она прижалась щекой к его щеке.
— Мы с тобой, папа. И я, и Биргитта, и Магган, и все. Ты не должен чувствовать себя одиноким.
— Без мамы мне все равно одиноко. Над этим я не властен, — глухо сказал Герман и вытер рукавом набежавшую слезу. — Но я знаю, что для Бритты так лучше. Для нее так лучше, — повторил он, словно стараясь убедить самого себя.
Дочери украдкой переглянулись. Герман и Бритта всегда были центром их жизни, фундаментом, непоколебимой скалой, к которой они всегда могли прислониться. А теперь фундамент зашатался, и их потянуло друг к другу. Смотреть на распад сознания матери и постепенное угасание отца было невыносимо. Невыносимым было и понимание, что вся ответственность за семью теперь ложится на них, что родители, ласковые, умные, никогда не ошибающиеся родители теперь уже не могут им помочь — наоборот, сами нуждаются в помощи. Конечно, они сами уже давно взрослые и прекрасно понимают, что родители не боги, что они не вечны, — и все равно дочери не могли побороть в себе внезапное и болезненное ощущение сиротства.
Анна-Грета еще раз обняла костлявые плечи Германа и села рядом за стол.
— А как она там сейчас одна? — беспокойно спросила Магган. — Пойти посмотреть?
— Когда я ушел, она только что уснула… Но она не спит больше часа подряд, так что мне уже пора домой, — сказал Герман и тяжело поднялся со стула.
— Давай лучше мы навестим маму, а ты приляжешь и отдохнешь хоть пару часов, — предложила Биргитта и взглянула на Магган. — Папа ведь может прилечь у тебя в гостевой?
— Это прекрасная мысль! — воскликнула Магган и ласково посмотрела на отца. — Иди приляг, а мы побудем с мамой.
— Спасибо, девочки. — Герман уже направлялся к двери. — Мы с мамой вместе уже больше пятидесяти лет, и я хочу быть с ней… не много осталось таких моментов. Когда она будет в больнице… — Он не закончил предложения и поторопился уйти, чтобы дочери не видели, как он плачет.
Бритта улыбалась во сне. Мозг, который отказывался служить ей, когда она бодрствовала, во сне работал исправно, с кинематографической ясностью. Воспоминания… не всегда желанные. Кое-что ей вовсе не хотелось вспоминать, но от картин прошлого избавиться было трудно… Свист отцовского ремня, красные вспухшие полосы на голых ребяческих попках, заплаканное лицо матери. Жуткая теснота в доме, визг избиваемых детей… Даже во сне ей хотелось зажать уши. Но другие воспоминания были лучше. Лето, они носятся по нагретым солнцем прибрежным скалам. Эльси в ее сшитых матерью платьях в цветочках, серьезный Эрик в коротких штанишках. Франц со своими волнистыми светлыми волосами… Ей всегда хотелось погладить его по голове — с самого детства, с тех пор, когда они были совсем маленькими и разница между мальчиками и девочками их еще не интересовала.
А сейчас опять этот голос. Знакомый, слишком хорошо знакомый голос. Он все чаще звучал в ее снах, настойчиво врывался в ее медленно мутнеющий мир. Голос, который исключал саму возможность примирения и забвения, голос, который она надеялась никогда больше не слышать. Это было странно и страшно.
Она начала метаться по подушке. Попыталась во сне заглушить этот голос, избавиться от страшных воспоминаний. И ей это удалось… удалось. Она впервые увидела во сне Германа — как раз таким, каким он был, когда она поняла, что с этим парнем проведет всю жизнь. Свадьба… она в красивом белом платье, и голова кружится от счастья… Боль схваток, и Анна-Грета, и внезапно вспыхнувшая безграничная родительская любовь. И Биргитта, и Магган. Герман возится с детьми, не обращая внимания на протесты тещи. Он возится с ними не потому, что от него кто-то этого требует, — просто он любит их до безумия. Она улыбнулась, глазные яблоки под закрытыми веками задрожали. Бритта всеми силами души приказала мозгу остаться здесь, в этом мгновении. Если бы ей сказали, что она имеет право только на одно воспоминание, а все остальные будут стерты из ее памяти, она выбрала бы именно это: Герман купает Магган в ванночке, осторожно поддерживает головку, нежно гладит губкой крошечное тельце и что-то напевает себе под нос. Девчушка широко открытыми глазами следит за каждым его движением… И Бритта видит себя — как она подглядывает за ними в полуоткрытую дверь. Пусть, пусть она забудет все остальное, но за это воспоминание она готова бороться насмерть. Герман и Маргарета, головка на руке, нежность… близость.
Внезапный звук… Бритта попыталась не слышать его, вернуться к плеску воды в ванночке, без конца слушать, как трогательно гулит их малютка, слушать и слушать… но этот новый звук вырвал ее из воспоминания и властно поволок на поверхность… в этот проклятый серый туман, который окружал ее густеющей с каждым днем завесой.
Вопреки желанию она открыла глаза. Над ней склонилась смутная фигура. Бритта улыбнулась. Нет, наверное, она еще не проснулась. Наверное, ей все же удалось уберечь сон от пробуждения.
— Это ты? — спросила она, вглядываясь в наклонившийся над ней туманный силуэт.
Она не могла даже пошевелиться — тело еще не отошло от приятной слабости сна. Ни слова в ответ. Оба молчали — говорить было не о чем. Наконец в ее больное сознание пришло понимание. На поверхность всплыло воспоминание — совсем другое воспоминание, и ей стало очень страшно. Страх… она-то думала, что постепенно окружающее забвение избавит ее от страха. Оказывается, нет. Она с ужасом поняла, что это не кто иной, как сама Смерть, стоит у ее постели, и все ее существо запротестовало — нет, не сейчас! Только не сейчас! Бритта вцепилась в простыню, хотела что-то сказать, но губы ее не слушались, вместо слов получился мучительный гортанный стон. Страх, как судорога, пронизал все тело, и она резко замотала головой. Герман! Она отчаянно попыталась мысленно передать ему крик о помощи и сразу поняла безнадежность этой попытки: как он мог уловить волны от ее полуразрушенного мозга? И даже если бы уловил услышал ее призыв, все было напрасно. Смерть пришла за ней, и без своей добычи она не уйдет. Ей суждено умереть в одиночестве. Без Германа. Без девочек. Она даже не сможет попрощаться с ними. И как раз в это короткое мгновение туман рассеялся, она почувствовала внезапную, холодную и многомерную ясность. Ужас бушевал в ее душе, как дикий зверь, но ей удалось все же собрать всю волю и закричать.
Смерть не пошевелилась. Смерть стояла, смотрела на нее и улыбалась. Улыбка была дружелюбной и оттого еще более страшной.
Потом Смерть наклонилась, перегнулась через Бритту и взяла в руки лежавшую рядом с ней подушку Германа. Бритта, онемев, следила, как приближается белый туман… последний туман.
Тело ее еще судорожно извивалось, не желая смириться с отсутствием воздуха. Она оторвала руки от простыни… господи, у Смерти такая же кожа, как у людей! Она впилась со всей силы ногтями в эту кожу, ей хотелось пожить еще хотя бы минуту, хотя бы секунду.
Потом наступил мрак.
~~~
Грини, пригород Осло, 1944 год
— Подъем! — Пронзительный голос надзирателя. — Через пять минут построение и проверка!
Аксель с трудом разлепил глаза — сначала один, потом другой. Он не сразу понял, где находится, — в бараке было совершенно темно, снаружи не проникало ни крупицы света. Но это все равно было лучше, чем первые месяцы в одиночке. Он предпочитал тесноту и вонь барака мучительной изоляции. В Грини было три тысячи пятьсот заключенных — кто-то ему назвал именно эту цифру. Его это не особенно удивило. Сам он не смог бы сосчитать узников — все они были одинаковыми, с одним и тем же выражением усталой безнадежности. Себя он не видел, но у него наверняка написано на лице то же самое.
Он сел на нарах и начал тереть глаза, борясь с остатками сна. На построение их выгоняли по нескольку раз в день, причин никто понять не мог — скорее всего, прихоть надзирателей. И не дай бог опоздать или просто замешкаться. Но сегодня Акселю было особенно трудно расстаться со сном. Ему приснилась Фьельбака. Как будто он сидит на горе Веддерберг и смотрит, как в гавань один за одним заходят груженные сельдью траулеры. Он даже слышал во сне крик чаек, кружащих у мачт. Вообще говоря, звуки довольно противные, но во сне они казались музыкой. Вся жизнь поселка проходила под аккомпанемент настырных воплей чаек. Что еще ему снилось? Теплый летний ветерок, доносящий до склона горы запах водорослей… Во сне он жадно вдыхал этот запах и изнемогал от счастья.