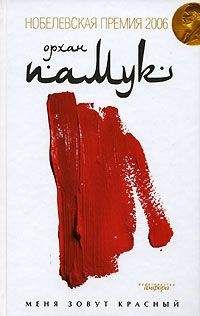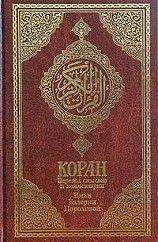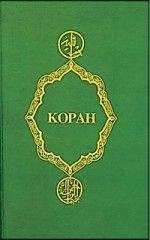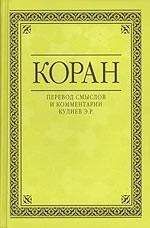Орхан Памук - Имя мне – Красный
– Видеть не видел, милая, но ради тебя солгу.
– Ты любишь моих детей?
– Люблю.
– А что тебе в них нравится?
– В Шевкете – сила, решительность, честность, упорство и ум, в Орхане – то, что он такой хрупкий, маленький, но сообразительный. Я люблю их за то, что они твои дети.
Шекюре слегка улыбнулась, хотя слезы по-прежнему катились у нее из глаз, и с поспешностью человека, которому нужно срочно переделать много дел, перешла к другому.
– Книгу, которой занимается отец, нужно закончить и преподнести султану. Все наши беды – из-за нее, она приносит несчастье.
– Какие еще несчастья она принесла, кроме смерти Зарифа-эфенди?
Этот вопрос Шекюре не понравился. Отвечая, она изо всех сил старалась выглядеть убежденной в правоте своих слов, но именно из-за этого в них слышалась неискренность:
– Приспешники ходжи Нусрета из Эрзурума распространяют слухи, что книга моего отца посеет безбожие и европейскую заразу. Может быть, это художники, которые бывают у нас дома, строят козни из зависти друг к другу? Ты с ними общался, тебе лучше знать.
– А твой деверь? – спросил я. – Он как-то связан с художниками, книгой или сторонниками ходжи Нусрета? Или он ни во что не вмешивается?
– Со всем этим он никак не связан, но вмешаться готов в любую минуту.
Наступила странная, загадочная тишина.
– Когда ты жила под одной крышей с Хасаном, ты прятала от него лицо?
– Насколько это возможно в крохотном домике.
Тут где-то неподалеку громко, что было сил, залаяли сразу несколько собак.
Я не решился спросить, почему покойный муж Шекюре, такой удачливый воин, владелец богатого тимара, поселил свою жену в крохотном домике вместе с отцом и братом. Вместо этого я, робея, спросил у любимой с детства:
– Почему ты вышла за своего мужа?
– Все равно меня за кого-нибудь выдали бы, – ответила она. Это была правда, и сказанная умно: Шекюре не стала хвалить своего мужа и, значит, огорчать меня. – Ты уехал и не вернулся. Возможно, кто-то и посчитает обиду признаком любви, но обиженный возлюбленный – это так утомительно. К тому же с ним у тебя нет никакого будущего.
Тоже правда, но за своего головореза она вышла не поэтому. Уже по одному только лукавому огоньку в глазах Шекюре нетрудно было догадаться, что она, как и все остальные, забыла меня вскоре после того, как я покинул Стамбул. А значит, она все-таки солгала. Впрочем, сделала она это для того, чтобы хоть немножко уврачевать мои душевные раны, а следовательно, мне нужно принять эту ложь с благодарностью. Я стал говорить о том, что во время своих странствий постоянно думал о ней, что по ночам мне являлся ее призрачный образ. Это самое сокровенное, что у меня есть, и я никогда не думал, что буду об этом рассказывать; говорил я чистую правду – но сам с изумлением заметил, что звучат мои слова неискренне.
Вы не поймете ощущений и желаний, посетивших меня в тот миг, если я не остановлюсь на странном противоречии, привлекшем мое внимание впервые в жизни: бывает, что человек рассказывает все, как было, и при этом неискренен. Наверное, самый лучший пример, что можно здесь привести, связан с теми самыми людьми, среди которых завелся не дающий нам покоя убийца: с художниками. Даже безупречнейший рисунок, изображающий, скажем, коня, как бы замечательно он ни представлял замысел Аллаха, этого коня сотворившего, и как бы точно ни соответствовал традициям великих мастеров, рисовавших коней в прошлом, может тем не менее и не выражать подлинных чувств художника, владевших им, когда он рисовал. Искренность художника или подобных нам с вами смиренных рабов Аллаха проявляется не в то мгновение, когда мы достигаем наивысшего мастерства и совершенства, а, напротив, тогда, когда у нас заплетается язык, когда мы ошибаемся, впадаем в уныние и терзаемся жгучей обидой. Это я говорю для тех женщин, которые испытали разочарование, догадавшись – как догадалась Шекюре, – что страстное влечение, которое я питал к ней, ничем не отличалось от головокружительного чувства, не раз овладевавшего мной за годы странствий, – вспомнить хотя бы ту узколицую красавицу из Казвина, с кожей цвета меди и темно-красными губами. Моя милая Шекюре, которой Аллах даровал глубокое знание жизни и острое чутье, понимала, что я двенадцать лет мучился из-за нее, переносил настоящую китайскую пытку, а теперь, впервые оставшись с ней наедине после столь долгой разлуки, не смог одолеть поднявшееся во мне темное вожделение и повел себя как жалкий развратник. Низами, говоря о красавице Ширин, сравнивает ее рот с красной чернильницей, полной жемчужин.
Когда неугомонные собаки снова подняли лай, Шекюре забеспокоилась и сказала, что ей пора уходить. Только тогда мы оба разом заметили, как темно стало в доме призрачного еврея, хотя вечер еще не наступил. Мне снова захотелось обнять Шекюре, я непроизвольно потянулся к ней, но она отпрыгнула, как воробышек.
– Красива ли я по-прежнему? Отвечай быстро.
Я ответил, она внимательно выслушала, явно со мной соглашаясь.
– А что скажешь о моем наряде?
Я похвалил и наряд.
– А аромат мой тебе нравится?
Игра, которую Низами называл шахматами любви, на самом деле сложнее обмена почерпнутыми из книг намеками – ее невидимые ходы делают души влюбленных, и Шекюре, конечно же, об этом знала.
– Много ли ты зарабатываешь? Сможешь ли обеспечить моих сирот?
Я обнял ее и стал говорить о том, что обширный опыт, приобретенный за более чем двенадцать лет на службе у султана и на войне, позволяет мне рассчитывать на самую блестящую будущность.
– Мы так хорошо обнимались в первый раз, – сказала Шекюре. – А сейчас волшебство ушло.
Чтобы доказать искренность своих чувств, я обнял ее покрепче и спросил, почему она отослала мне с Эстер тот рисунок, который хранила все эти годы. Она удивилась моей недогадливости, а в глазах ее я увидел такую нежность, что мы снова поцеловались. Но на этот раз я не лишился разума от вожделения, наши объятия были полны нежности и любви. Возможность обнять любимую – самое лучшее лекарство от мук страсти.
Я положил руку ей на грудь, однако она нежно, но решительно оттолкнула меня и сказала, что не такой уж я зрелый человек, чтобы создать крепкую семью с женщиной, которая сдалась до замужества, и не такой уж опытный, иначе не забыл бы, что поспешность на руку шайтану, а до женитьбы нужно потерпеть и пострадать. Выскользнув из моих объятий, она опустила на лицо льняное покрывало и направилась к выходу. Когда она открыла дверь и стало видно, как в рано опустившихся сумерках падает снег, я забыл, что мы все это время говорили шепотом (видимо, чтобы не потревожить душу повешенного еврея), и громко, очень громко спросил:
– Что нам теперь делать?
– Не знаю, – ответила Шекюре, следуя правилам шахмат любви, и тихо ушла из старого сада.
Снег быстро засыпал ее следы.
28. Меня назовут убийцей
Уверен, с вами такое тоже бывает. Плутая по бесконечным стамбульским улицам, поедая жареные баклажаны в харчевне или внимательно разглядывая изгибы орнамента, выполненного в виде переплетенного тростника, я вдруг чувствую, что воспринимаю настоящее как прошлое. Скажем, я иду по снегу, а мне хочется сказать: «Я шел по снегу».
События, о которых я вам сейчас расскажу, тоже происходили словно бы и в столь хорошо нам всем известном настоящем времени, и в уже давно прошедшем. Был вечер, сгущались сумерки, падал редкий снег. Я шел по улице, где живет Эниште-эфенди.
На этот раз я пришел сюда преисполненный решимости, зная, чего хочу. Раньше ноги сами приводили меня сюда, пока я размышлял совсем о другом – скажем, о книгах, сделанных в Герате при Тимуре, украшенных изображениями солнца, но лишенных позолоты, или о том, как впервые сказал маме, что получил за книгу семьсот акче, или о своих прегрешениях и глупых ошибках. Теперь я сознавал, куда иду.
Я боялся, что мне не откроют, но едва прикоснулся к калитке, собираясь постучать, как она сама приотворилась – и я снова убедился, что Аллах на моей стороне. Во дворе, ярко-белом от снега, никого не было, как и по ночам, когда я приходил сюда, чтобы работать над новыми рисунками к книге. Справа – колодец, на нем ведро и рядом веселый воробей, которому мороз, казалось, нипочем, слева – пустая конюшня, где коней привязывали только гости. Все на месте, все как всегда. Я вошел в открытую дверь сбоку от конюшни и поднялся по деревянной лестнице, громко топая и кашляя.
Но никто не откликнулся на производимый мною шум. Прежде чем войти в коридор, я снял грязные туфли и нарочито громко бросил их на пол – опять никто не вышел. По обыкновению осмотрев выстроенную вдоль стены обувь, я обратил внимание, что не хватает изящных зеленых туфелек, которые, как я полагал, принадлежат Шекюре, и мне пришло в голову, что дома, возможно, никого нет.