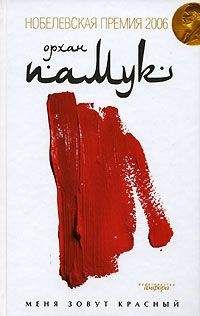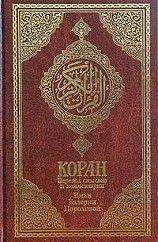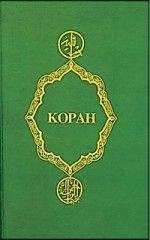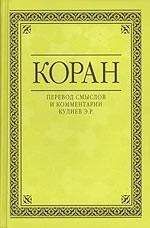Орхан Памук - Имя мне – Красный
Я быстро открыл первую справа дверь и вошел в комнату, где, как я думал, спит Шекюре с детьми. Ощупал постель, осмотрел содержимое сундука и шкафа, дверца которого открылась совершенно бесшумно. В комнате нежно пахло миндалем; подумав, что так, должно быть, пахнет кожа Шекюре, я полез открывать верхнюю створку шкафа. Оттуда вывалилась подушка – сначала упала мне на голову, а потом на стоявший внизу медный кувшин и стаканы.
– Хайрийе, что ты шумишь? – послышался голос Эниште-эфенди. – Или это ты, Шекюре?
Я в мгновение ока выскочил из комнаты, перебежал коридор наискосок, открыл синюю дверь мастерской, в которой мы зимними ночами работали над книгой, и сказал:
– Это я пришел, Эниште-эфенди, я!
– «Я» – это кто?
В этот миг я понял, что прозвища, которые дал нам в детстве мастер Осман, Эниште-эфенди использовал лишь для того, чтобы тайком посмеяться над нами, – и медленно, отчетливо произнес свое полное имя, присовокупив имя отца и название города, откуда я родом, а также прибавив в конце: «Ваш многогрешный раб», словно горделивый каллиграф, решивший увековечить себя на последней странице роскошного тома.
– Вот как? – проговорил Эниште-эфенди. И повторил: – Вот как!
Сказав это, он замолчал, словно встретившийся со Смертью старик из слышанной мной в детстве сирийской сказки. Длилось молчание недолго, но показалось – целую вечность.
Вот я сейчас заговорил о смерти, и, может быть, кто-нибудь из вас подумал, что я замыслил дурное. Тогда вы мало что поняли из книги, которую читаете: разве человек, у которого есть подобные намерения, будет стучать в дверь и снимать обувь? Разве придет он без ножа?
– Вот оно как, – сказал Эниште-эфенди, опять как тот старик из сказки. Однако затем сменил тон. – Добро пожаловать, сынок. Зачем пришел?
На улице уже почти стемнело. Сквозь узкое окошко, выходящее на чинару и гранат, скрытые до весны вощеной тканью и створками, в комнату проникал тусклый свет, который, должно быть, понравился бы китайским художникам: разглядеть можно было лишь очертания предметов. Эниште-эфенди сидел в своем обычном углу, рядом с подставкой для книг, так, чтобы свет падал слева. Лица его я не мог разглядеть. Я лихорадочно пытался вызвать в себе чувство близости, которое испытывал в те ночи, когда мы с ним до самого утра при свечах сидели среди этих кистей, перьев, чернильниц, рисовали и говорили о том, что такое рисунок. Но сегодня я чувствовал себя здесь чужим и, должно быть, поэтому постеснялся вот так прямо взять и выложить свои сомнения: мол, когда рисую, меня одолевает страх, что я грешу, а еще я боюсь, что об этом грехе прознают святоши. Я решил рассказать Эниште-эфенди одну историю.
Вы, наверное, слышали о Шейхе Мохаммеде, художнике из Исфахана. Никто лучше его не умел сочетать цвета, размечать страницы, изображать животных, людей и человеческие лица: не было ему равных в умении привнести в рисунок чувство, живущее в поэзии, и строгую логику, присущую геометрии. Достигнув вершин мастерства в молодом возрасте, этот чудо-мастер три десятка лет оставался самым смелым среди художников своего времени как в выборе предмета, так и в манере письма. Это он с необыкновенным мастерством и чувством меры соединил изящную и нежную гератскую миниатюру с китайским рисунком: оттуда, из Китая, через монголов к нам пришли нарисованные черным страшные шайтаны, рогатые джинны, великаны, кони с громадным членом и полулюди-полузвери. Это он первым проявил интерес к портретам, которые привозили на кораблях португальцы и голландцы, и испытал на себе их влияние; он вернул к жизни забытые приемы художников времен Чингисхана, разыскав старинные разодранные книги; он прежде всех осмелился взяться за такие сюжеты, от которых у мужчин встает: изобразил, например, Искандера на острове женщин, наблюдающего за тем, как плавают обнаженные красавицы, и купающуюся при лунном свете Ширин; он рисовал Пророка, летящего на небо на коне Бураке, почесывающихся шахов, сношающихся собак, упившихся вином шейхов – а за ним следом шли и другие художники. Все эти тридцать лет он усердно трудился, обуреваемый вдохновением, а попутно, то тайно, то открыто, пил вино и курил опиум. Однако позже, в почтенном возрасте, он за краткое время полностью изменился: стал учеником-мюридом благочестивого шейха, объявил, что все его рисунки, сделанные за тридцать лет, пропитаны безбожием и безверием, и отрекся от них. Более того, оставшиеся тридцать лет своей жизни Шейх Мохаммед посвятил тому, что ходил из города в город и выискивал во дворцах и библиотеках книги со своими рисунками. Обнаружив в книжном собрании какого-нибудь шаха свой давнишний рисунок, он пускался на всяческие хитрости, только бы уничтожить иллюстрацию: например, улучив момент, когда никто не видит, выдирал страницу с рисунком или же лил на него воду.
Вот эту историю я и поведал Эниште-эфенди, чтобы показать, как страдает художник, если, увлекшись творчеством, впадает в безбожие, сам того не заметив. Я напомнил также и о том, каков был конец Шейха Мохаммеда. Когда в огромной библиотеке Аббаса Мирзы, наместника Казвина, ему не удалось отыскать среди великого множества книг те несколько, в которых были его рисунки, художник поджег все книгохранилище. В страшном пожаре погиб и сам Шейх Мохаммед, мучимый раскаянием за свои грехи. Я рассказывал о его смерти с таким волнением, будто сам горел в том огне.
– Сынок, – ласково сказал Эниште-эфенди, – ты что, боишься своих собственных рисунков?
В комнате было уже так темно, что я не мог разглядеть его лица, но мне показалось, будто он улыбнулся.
– Наша книга уже давно никакая не тайная, – проговорил я. – Может быть, это и не так уж важно, но слухи о ней ходят повсюду. Говорят, что мы хулим нашу веру. Говорят, что мы делаем вовсе не ту книгу, которую заказал и ждет султан, а совсем другую, по нашему собственному разумению. Более того, наша книга заключает в себе и насмешку над султаном, и безбожие, и неверие, и подражание гяурам. Некоторые утверждают даже, что шайтан у нас – милое создание. Ходят слухи о перспективе: мы, мол, смотрим на мир глазами шелудивого пса, изображаем мечеть размером с клеща – и не потому вовсе, что она стоит на заднем плане, а желая осмеять ходящих в мечеть верующих и оскорбить ислам. По ночам я думаю об этом и не могу уснуть.
– Мы же работали над этими рисунками вместе, – укорил меня Эниште-эфенди. – Скажи, разве мы делали что-нибудь подобное? Да что там, разве у нас было такое даже в мыслях?
– Никогда! – воскликнул я с деланым жаром. – Однако говорят и другое: что есть еще один, последний рисунок и он являет собой уже не скрытое безбожие, а откровенное кощунство!
– Ты и последний рисунок тоже видел.
– Я видел только края большого, на две страницы, листа, на которых рисовал то, что вы меня просили, – ответил я осторожно, но твердо, надеясь, что Эниште-эфенди это понравится. – Однако весь рисунок я не видел. Если бы я увидел его целиком и убедился, что слухи о нем всего лишь гнусная клевета, меня перестали бы терзать муки совести.
– Почему ты чувствуешь себя виноватым? – спросил Эниште-эфенди. – Что тебя гложет? Кто вселил в тебя страх?
– Когда много месяцев с радостью работаешь над книгой и вдруг в душу закрадывается опасение, что она оскорбляет святое для тебя, ты испытываешь муки ада уже на этом свете. Вот если бы увидеть последний рисунок!
– Так вот в чем дело. Ради этого ты и пришел?
Меня охватила тревога. А вдруг он думает про меня плохое, – например, что это я убил беднягу Зарифа-эфенди?
– Среди распространяющих слухи есть и те, кто хочет свергнуть нашего султана и посадить на трон наследника. Они утверждают, что султан и в самом деле тайно желает создать безбожную книгу.
– Да много ли человек этому верят? – сказал Эниште-эфенди. В его голосе звучали усталость и скука. – Всякий ретивый проповедник, ошалев от первых успехов, начинает кричать, что вера в опасности. Нет надежнее способа заработать на хлеб.
Неужели он думал, что я пришел к нему передавать слухи и пересуды?
– Бедный покойный Зариф-эфенди, – произнес я дрожащим голосом. – Я слышал, что он увидел последний рисунок целиком и счел его кощунственным – за то, мол, мы его и убили. Мне это пересказал мой близкий знакомый, один из старших мастеров. Вы же знаете этих учеников и подмастерьев, им бы всем только посплетничать.
Я еще долго говорил в том же духе, все сильнее и сильнее волнуясь. Не знаю, что из того, о чем рассказывал, я на самом деле слышал, что вообразил себе от страха после того, как пришил подлого клеветника, а что понапридумывал прямо тогда. Захлебываясь словами, я надеялся, что уж теперь-то Эниште-эфенди покажет последний рисунок и успокоит меня. Как он не может понять, что только этим избавит меня от сомнений и убедит, что я не погряз в грехе?