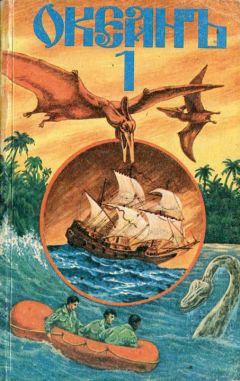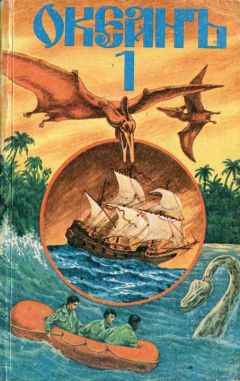Станислав Гагарин - По дуге большого круга
— Должна быть, — сказал я. — На мне больше ничего нет.
— И прекрасно! — вскричал Васька, ухватив меня за рукав. — Прямая тебе дорога в Мортрансфлот!
— Я подумаю, Василь, спасибо. Но мне как-то промысловое судно милее…
— Так ты и будешь плавать на них, чудак. Только рыбу ловить не придется. Правда, иногда после приемки судна у фирмы мы идем в район промысла и понемножку рыбачим, чтоб опробовать оборудование. Так что и у нас ты свою страсть можешь удовлетворить. Только не понимаю твоего промыслового азарта. По мне, так пускай эту рыбу ловит тот, кто ее в океан выпустил… Ладно-ладно, я шучу, не смотри на меня волком, Волков! — Он засмеялся, довольный случайной игрой слов. — Значит, договорились?
Когда мы все четверо оказались снова за столом, Ваську осенило. Он внимательно посмотрел на меня, потом на Стаса, видимо соображая, как выйти из положения, и наконец сказал, глядя поверх наших с Решевским голов:
— Коллеги, разрешите пригласить на танец даму…
Не сговариваясь, мы поглядели со Стасом друг на друга и ничего Мокичеву не ответили.
— Молчание — знак согласия! — Васька, лихо вскочив, поклонился Галке.
Впервые за весь вечер остались мы с Решевским наедине.
Не знаю, кто проявил больший такт, оставив нас вдвоем, Галка или Мокичев, а может быть, все произошло случайно, скорее так оно и было. Если раньше я думал о необходимости такой встречи и последующего мужского разговора, то сейчас, когда вечер подходил к концу и я о многом успел подумать, многое смог по-новому понять, сейчас не видел смысла в этом разговоре.
«Никаких слов не будет, Решевский, — подумал я, глядя Стасу в глаза. — Если произнесу их сейчас, они потеряют силу. Иногда слова нуждаются в том, чтобы их не произносили. Слова были мыслями в моем сознании и только в нем способны существовать. Стоит слететь им с губ, они поблекнут, превратятся в прах».
— Ты можешь дать мне по морде сейчас, Игорь, — сказал Решевский, — но я хочу тебе все рассказать…
— Тебя ударить? Могу, конечно… Только зачем? Это ничего не изменит. И потом, ты вряд ли считаешь, что заслужил это. Ты, мне кажется, вполне доволен судьбой. Зачем желать лучшего? Ну а о себе я позабочусь сам… Видишь вон ту красотку, что на стене, с янтарем в руках? Возьму ее в жены. Как на твой взгляд? Годится? Надежно и оригинально…
— Игорь, я стараюсь понять тебя, но…
— И хорошо. Когда стараются — хорошо. Больше всего страдаешь от человеческого равнодушия. А с тобой удобно. Ты все-таки хоть стараешься понять, и не нужно поэтому сотрясать воздух словесами. Ладно… Ты мне вот что лучше скажи… Море почему бросил? Она, Галка, заставила, да? Всерьез занялся преподавательской деятельностью или это всего лишь временный этап?
Решевский молчал, видимо обдумывая ответ.
— Тут все оказалось непросто… — начал он.
— А ты не усложняй без нужды…
— Видишь ли, конечно, Галка настояла, ну и я тоже… Сейчас учусь заочно в Высшей мореходке, хочу заняться теорией судовождения.
— А практику оставляешь нам, простым смертным? Что ж, ничего зазорного в твоих планах нет. Каждому свое. Иногда жалел, что соблазнил тебя мореходкой…
Решевский вздрогнул.
— Жалел?
— Ну не в том смысле, в каком ты сейчас подумал. Просто видел, что ты способен на большее. Кончил бы полную школу и пошел в мединститут, глядишь, получился бы ученый или хороший врач, как отец… У тебя было это, ну способность к анализу явлений, что ли, Стас, понимаешь… Впрочем, и сейчас не поздно.
— Ты так считаешь?
— Конечно. Ведь начинаю же я сегодня новую жизнь. А море ты бросил зря. Ну это я на свой аршин прикинул, извини…
«А может быть, и ты когда-нибудь бросишь море, — подумал о себе, — надоест тебе, Волков, болтаться месяцами в океане и видеть вокруг воду, одну лишь воду да примелькавшиеся лица твоих штурманов и ждать, когда море подкинет пакость, вроде той, что имел уже несчастье попробовать, или нечто другое — ассортимент у моря велик, и оно не скупится на вариации. Оно чужое для нас, землян, хотя и говорят, что жизнь возникла в море. Наверное, было это так давно, что океан утратил память об этом и видит в нас лишь назойливых муравьев, настойчиво царапающих его поверхность килями своих кораблей, волокущих тралы по дну. Не случайно «море» — слово среднего рода. Море — это не поддающееся человеческому разумению существо. Вот «земля» — это понятно. Земля, мать, родина… И все-таки люди снова снаряжают корабли, и снова гремят якорные цепи, летят в воду сброшенные с причала швартовы — море призывает к себе людей, утоляющих ненасытную жажду познания. Многие не отдают себе в этом отчета, но инстинктивно, подсознательно захвачены морем в плен. Иные уходят совсем, уходят и не возвращаются к морю. Однако тоска, грустная память о нем остается. Как бы и тебе, Решевский, не затосковать… А может быть, ты и тоскуешь, парень?»
Вслух я ничего не сказал. Это мое восприятие моря и не касается остальных. А тут Мокичев вернулся с Галкой к столу, откланялся и двинул к своим ребятам — те уже махали ему руками, известно, какая компания без Васьки? А при Галке ни о чем таком, связанном с морем, говорить нельзя. Мне становилось ясно, что пора бы заканчивать вечер, нервы у меня не стальные, а я так упорно перетягивал их сегодня, забыв о пределе запаса прочности.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Шаги под дверью затихли. Залязгал запор, дверь распахнулась, и в камеру «шизо» вошел Загладин.
Штрафной изолятор, или сокращенно «шизо» (странное слово, созвучное со словом «шизоид», «шизофреник», интересно, знал ли об этом тот, кто первым придумал такое сокращение и пустил его в обиход?), так вот, значит, этот самый «шизо», тюрьма в тюрьме, находился на территории общей «зоны» и имел собственную охрану и систему ограждения. Туда помещали заключенных, которые нарушили режим или совершили преступление уже в колонии и ждали следствия и суда. Были в шизо камеры общие, на десять — двенадцать человек, для тех, кто получил обычную отсидку. Таких кормили по полному рациону и давали работу прямо в камеру, чтоб не слонялись от безделья.
Меня же определили в одиночку, на строгий режим. Работы здесь не полагалось, выводили лишь раз в сутки на тридцатиминутную прогулку.
Попав в одиночку, я почувствовал себя, как ни странно, счастливым. После случившейся встряски мне никого не хотелось видеть. Возможность побыть с самим собой наедине оборачивалась неожиданно приятной перспективой, о чем, вероятно, не подумала администрация, определяя для меня строгий режим. А может быть, как раз и решено было проявить своеобразную гуманность и дать побыть одному, ведь больше всего я нуждался тогда именно в этом.
На второй день пришел ко мне наш воспитатель, майор Загладин. Но хочу быть последовательным и объяснить, за что попал в штрафной изолятор.
Исполнился год моего пребывания в колонии.
«Прошел год, — думал я, — тебе уже исполнился тридцать один. Если отбудешь срок полностью, исполнится тридцать восемь. Не так уж и много на первый взгляд. Но это ведь не обычные годы. Наверно, условия неволи таковы, что некие качества человеческой натуры бесследно исчезают и появляются новые. И есть опасность потерять невосполнимое, значение которого трудно переоценить. И взамен приобрести то, что помешает жить потом на воле».
Для меня не оставалось ничего другого, как исправно работать, читать, размышлять о самых различных вещах, ждать от Галки писем и загонять подальше, в затаенные уголки души, теплившуюся надежду на успех усилий Юрия Федоровича Мирончука.
Мирончук изредка писал, рассказывал о новостях в Тралфлоте, старался ободрить и делал это не прямо, в лоб, а незаметно, исподволь, трудно было ухватить, где и как он меня подбадривает, но тем не менее от писем его становилось спокойное. О деле моем писал скупо, однако я чувствовал, что Юрий Федорович о нем не забывает.
Не так-то просто пришлось Мирончуку. Он понимал, в какую сложную ситуацию попал я. Стечение обстоятельств препятствовало обнаружению истины. И конечно, за этим стояла тень Коллинза. Но ему, Коллинзу, так и не удалось сделать из меня союзника, хотя бы и потенциального.
Да, Мирончуку было нелегко. Так уж, видно, устроено человеческое общество, что наряду с людьми, откликающимися на чужую беду, живут и такие, для которых своя рубашка ближе к телу, а собственная хата оказывается, конечно, с краю… Кто его знает, может быть, какой-то резон в этом и есть, может быть, сама эволюция позаботилась о наделении человека не только коллективистским разумом, но и личностным эгоизмом?
Находились такие, что говорили Мирончуку: «И чего ты связался с этим делом, Юрий Федорович? Непонятна твоя позиция… Сам подумай. Корабль был? Был. Утопил его со всей командой Волков? Утопил… Есть документы, снимающие с Волкова вину? Нету их. Суд признал капитана виновным? Признал. Чего же ты хочешь, дорогой товарищ Мирончук? Или ты следствию и нашему справедливому советскому суду не доверяешь, а?»