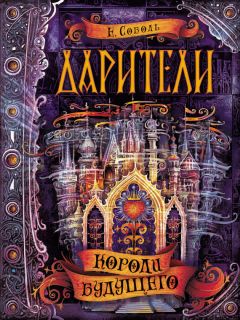Екатерина Лесина - Неизвестная сказка Андерсена
Камин? Откуда в ее квартире камин? И ковер такой: сине-желтый, с длинным, пропыленным ворсом, на котором то тут, то там виднелись черные следы от ожогов.
– Очнулась, милая? А я уже беспокоиться начала… мало ли, думаю, вдруг да с сердцем чего? Здоровое сердце?
Дашка хотела ответить и обнаружила, что говорить не в состоянии – рот ее был заклеен скотчем.
– Не трудись, милая, не трудись. – Скрипнуло кресло, что-то тяжелое шлепнулось на пол, застучали коготки, раздался нервный лай и тотчас смолк. – Я в том, как вязать надо, толк знаю. Двадцать лет на границе, как-никак многому научилась. Что головой вертишь? Где ты? На даче моей. Как попала? А обыкновенно. Перенесла, привезла, притащила. Не так и сложно, хотя, признаться, думала, ты полегче.
В Дашкином поле зрения показались войлочные тапочки с длинными, поднятыми вверх носами и распухшие ноги генеральши, обтянутые плотными чулками в рубчик.
– Удивляешься? Я когда-то Жорку на плечах таскала, как нажрется, а он втрое весит. Я крепкая, а вы, молодые, нынче слабые. Чуть что и умирать… и я бы умерла, и умру, когда все сделаю. И ты, может статься, умрешь. Но как иначе? Все требует жертв, а я и так слишком уж долго тянула. Даша, ты любишь сказки?
Огонь в камине разгорается, алые язычки осторожно переползают с одного сухого бревна на другое, трогают, примеряются, и бревно трещит, предчувствуя, что еще немного и вспыхнет. Жарко. Но вот не страшно отчего-то, хотя бояться, наверное, следует: старуха явно безумна.
Но все равно не страшно.
Клавдия Антоновна с кряхтеньем наклоняется, переворачивает Дашку на бок, и камин остается сзади. И лежать неудобно, зажатая рука мгновенно затекает, а боль в запястьях становится невыносимой.
– Все любят сказки, только многие взрослеют, а некоторые, вот такие, как ты, до последнего хранят наивную веру в чудо. Сама подумай, Дашенька, какие в нынешней жизни чудеса? Вот-вот, я о том же… – генеральша бродила по комнате, теперь было видно, что комната эта велика – дальний конец ее терялся в сумраке, сквозь который проступали темные силуэты мебели. Шкаф, кровать, еще один шкаф, пыльное озеро старинного зеркала и кресло-качалка.
Его Клавдия Антоновна подтянула ближе. Уселась, открыла книгу и прочла:
– «Прежде, чем взойдет солнце, ты должна вонзить нож в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост. Спеши, или он, или ты – один из вас должен умереть до восхода солнца!»[6]
Дашка подумала, что как-то нелепо будет умереть здесь. Да и то, странная это смерть, пасть жертвой сумасшедшей старухи.
А генеральская вдова продолжала с выражением читать сказку:
– «У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может, только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли, – на этом месте Клавдия Антоновна оторвалась от книги, подарив Дашке выразительный взгляд. – У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они могут заслужить ее добрыми делами. И ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась творить добро, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир…»[7]
Дашка, превозмогая боль, перекатилась на живот, попыталась встать на колени. Странно, но Клавдия Антоновна не обратила внимания на ее потуги, словно знала – бояться нечего. А может, и вправду нечего? Кто будет Дашку искать? Никто.
Но это не значит, что она возьмет и сдастся.
– Понимаешь, милая, в чем суть? В мучениях. В том, что человек живет, страдает, полную чашу пьет, иногда и не одну, а взамен… взамен угасание. Ты, верно, думаешь, что я сошла с ума? Что чушь несу… Я сама долго блуждала впотьмах. Я тебе рассказывала сказку о своей жизни. Знаешь, это почти правда, вот только «почти» – настоящая пропасть между правдою и ложью.
Раздвинуть колени, подняться, найти равновесие. Перед глазами плывет и кувыркается, это от лекарств, которыми Дашку накачала генеральша. Но пройдет, как сухость во рту и урчание в животе, как боль в ногах и руках.
Все пройдет. Встать бы.
– Не старайся, деточка, не выйдет. Прими судьбу свою со смирением. – Клавдия Антоновна, пошарив в кармане, достала сигарету, которую долго разминала пальцами, роняя на страницы табачную крошку, потом долго жевала, точно желая сполна насладиться вкусом, и только потом подожгла. – Как я когда-то. Знаешь, я ведь почти правду сказала. Извини уж, надо было сказку сказывать, пока чаек не подействует, а лучше всего та сказка, которая к правде близка. Был у меня муж, была и дочь, правда, не Юленька, а Софья. Софьюшка. И замуж она вышла за одного проходимца, и так случилось, что проходимец этот разрушил мою семью.
Сизый дым, старый халат поверх кофты с люрексом, а под кофтой видно шерстяное платье с высоким воротом. Курит генеральша, качается кресло, дрожат страницы книги, а встать на ноги не выходит. Не Дашкин сегодня день.
– Но я отомщу. Я им всем отомщу, сволочам этаким. Отделались от старушки… откупились… а ведь я тоже, как русалочка была, все за любимого, хоть голос, хоть волосы, хоть убить кого. И что вышло? – Она вдруг наклонилась, ухватив за ворот кофты, рванула, заставляя Дашку подняться. – Что вышло? А то же, что и у тебя! Пустота! Молодая была, красивая – любил. Нужная – любил. А встал на ноги и бросил. Разведемся, говорит, я тебя не обижу… обидел. Не по сказке это – разводиться, надо чтобы до смерти, чтобы в один день, на одном кладбище…
Разбегались морщинки по круглому лицу, забивалась в них пудра, скатываясь грязными шариками, расползались серые тени и алая помада. Страшна была Клавдия Антоновна.
– Думаешь небось, почему тебя выбрала? Случайно, по безумию своему, или с умыслом? С умыслом, милая моя, еще с каким умыслом. Чего тебе искать? Чего желать и о чем жалеть? Разве что о несбывшемся, так оно и не сбудется, бальзаковская ты дева.
Пальцы, пальчики, стоптанные, стертые, но выученные держать вес тела. Занемели? Ничего, справятся, удержат равновесие, не позволят упасть.
Первая позиция.
– Я вижу твою жизнь, как собственную, они не так и различаются, Дашенька. Я помогу тебе, я сберегу тебя от боли и одиночества, от ощущения никчемности и страха перед старостью. Я покажу тебе, во что превращается любовь.
Толчок в грудь, падение и жестким о голову. Темнота.
– Марик? Узнал?
– Узнал. Чего тебе надо?
– Уже тыкаешь? Ладно, мы люди не гордые. Дело к тебе есть.
– Мне некогда.
– Ну да, конечно, ты же ищешь важную вещь. Очень важную вещь, просто-таки жизненно необходимую, ведь без нее, Маричек, жизнь твоя как раз и закончится.
– Она у тебя? Как?
– А какая разница? Но ладно, скажу. Вы в «Анду» секретаршу послали, а я уборщицей была… да, Марик, уборщицей, на которую никто-то внимания не обращает, которая с удовольствием поможет занятому человеку, отнесет почту, раз уж наверх едет… а заодно и приберет посылочку. Ту самую, Марик, за которой вы бегаете. Вы от Артюхина, но он же не дурак, чтоб фамилию светить, поэтому надо было думать, Марик, надо было сторожить другое имя.
– Умная, а? И чего ты хочешь?
– Поговорить. Я на даче. Жду. И чем скорее, тем лучше. Это ведь не в твоих интересах медлить, правда?
Дом вымерз. Распахнутая дверь, раскрытые окна, снег на пороге и подоконнике. Странно, что еще не ограбили. Или ограбили? Беспорядок. Сброшенные с полок книги обложками вверх, страницами вниз, грязь на ковре, синтетический пух скрипит под ногами, и, поддакивая ему, хрустит стекло. Из кресел и диванов, пробиваясь сквозь раны в обивке, торчат металлические кости.
Беззащитен дом. Ранен дом. Обижен дом.
– Ты здесь живешь? – Ядвига, подняв с пола книгу, стряхнула налипший снег. – Красиво.
Скорее уж похоже на свалку. Интересно, что здесь пытались найти? И кто? Сколько их было? И что теперь делать?
Обрывая череду вопросов, зазвонил телефон. Звук прокатился по пустым комнатам, нарушив морозную тишину.
– Тебя, – сказала Ядвига, водружая книгу на полку. – Они тебя ждали. Скорее всего.
И оказалась права.
– Ефимка? Вернулся? Это хорошо, что вернулся, разговор к тебе имеется, – голос тонул в помехах, плыл, то исчезая – тогда трубку заполняло сипение и стук, – то вдруг снова появляясь и вытесняя прочие звуки. – В общем так, Ефимка, положение у тебя аховое. Ты ведь у ментов на крючке, они думают, что это ты секретутку замочил.
– Ты кто?
Ядвига подошла, стала рядом, знаком показав, что тоже хочет послушать.
– От многих знаний многие беды, – ответил собеседник, похрюкивая. – Ты не вопросы спрашивай, а слушай-ка сюда. Хочешь выпутаться?
– А кто ж не хочет?
– Правильно мыслишь. Значит, так, во-первых, на фирму не суйся, пасут. Во-вторых, девку свою хочешь получить живой? Думаю, что хочешь, хороша девка, на диво хороша, сам бы за такую горы свернул, ну да тебе того не требуется. С тебя одно надо – документы.
– Какие документы?
– Ай, Ефимка, ну ты разочаровываешь, право слово! Я уж понадеялся, что образумишься, а ты… огорчаешь, огорчаешь, дружок. Смотри, сейчас-то и шанс есть, и дом есть, и ты живой, а ведь могло бы иначе. Не боишься, Ефимка, в другой раз не на свалке, а в гробу проснуться?