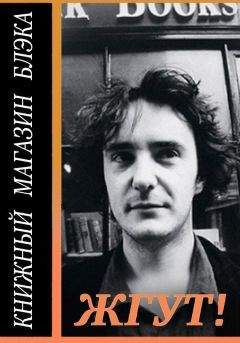Робин Слоун - Круглосуточный книжный мистера Пенумбры
Мои пальцы на дверной ручке. Задерживаю дыхание — умоляю, умоляю, будь не заперта — и жму на ручку. Бедный замученный Флафф Макфлай никогда не переживал чувства, подобного моему облегчению оттого, что дверь поддается. Я проскальзываю внутрь и затворяю ее за собой.
За дверью вновь темнота. Секунду я стою, оцепенев, прижимая к телу неудобный груз и спиной навалившись на дверь. Заставляю себя не вдыхать глубоко; прошу свое хомячье сердце стучать потише, ну, пожалуйста, потише.
За моей спиной звуки: движение, голоса. Дверь неплотно прилегает к проему в камне; как кабинка в туалете, которая всегда кажется слишком открытой. Но это позволяет мне, отложив в сторону сканер, лечь на холодный гладкий пол и наблюдать сквозь полудюймовую щель между полом и дверью.
Читальня наполняется черными мантиями. Их тут уже с десяток, а по ступеням спускаются новые и новые. Что происходит? Декл забыл свериться с календарем? Или он нас предал? Сегодня ежегодный съезд?
Я усаживаюсь на пол и делаю первое, что человек обычно делает в экстренной ситуации, то есть набираю эсэмэску. Не тут-то было. Телефон не находит сеть, даже когда я встаю на цыпочки и машу им у самого потолка.
Нужно спрятаться. Я найду укромный закуток, свернусь в шар и выжду до следующей ночи, а потом ускользну. Придется терпеть голод и жажду, а может, и желание посетить туалет… однако все по очереди. Глаза вновь привыкают к темноте, и, посветив фонариком вокруг, можно определить форму помещения. Это тесная каморка с низким потолком, набитая какими-то темными предметами, сцепленными и перепутанными. В полумраке все это кажется сценой из научно-фантастического фильма: вот металлические шпангоуты с острыми краями, вот уходящие в потолок трубопроводы.
Я ощупью иду вглубь комнаты. И вдруг дверь издает мягкий щелчок, от которого я опять вхожу в хомячий режим. Я бросаюсь вперед и съеживаюсь за каким-то из темных предметов. Что-то острое упирается мне в спину и покачивается, я тянусь подхватить его — это металлический прут, обжигающе холодный и скользкий от пыли. Смогу ли я ударить черную мантию прутом? А куда надо ударить? В лицо? Я не уверен, что смогу кого-нибудь ударить в лицо. Я Вор, а не Воин.
В комнату проникает теплый свет, и я вижу силуэт в дверях. Округлый силуэт. Эдгара Декла.
Он шаркает в комнату, раздается плеск. У Декла швабра и ведро, которые он неловко держит в одной руке, шаря другой по стене. Раздается низкое жужжание, и комнату заливает оранжевый свет. Я морщусь и жмурюсь.
Декл отчетливо ахает, увидев меня, скорчившегося в углу со вскинутым на манер какой-то готической бейсбольной биты железным прутом. Глаза у него лезут на лоб.
— Вы уже должны были уйти! — шипит он.
Я решаю не сообщать, что меня задержали Моффат и Пенумбра.
— Было совсем темно, — объясняю я.
Со звяком и хлюпом Декл оставляет в сторону швабру и ведро. Вздыхает и вытирает лоб широким черным рукавом. Я опускаю прут. Теперь я вижу, что притулился у большой печи; железный прут — это кочерга.
Я осматриваю комнату, и научной фантастике не остается места. Меня окружают печатные машины. Здесь беглецы из разных эпох: старый монотип, ощетинившийся рычагами и рукоятками; широкий тяжелый цилиндр, установленный на длинной салазке, и что-то причудливое из Гутенберговской мастерской — массивный куб из витого дерева с торчащим наверху гигантским штопором.
Тут наборные кассы и верстатки. На широком потертом столе разложены орудия печатного дела: толстые книжные блоки и высокие катушки с суровой дратвой. Под столом длинные цепи, уложенные широкими бухтами. Укрывающая меня печь скалится широкой решеткой, а наверху из нее выходит толстая труба, исчезающая в потолке каморки.
Тут, под улицами Манхэттена, я обнаружил страннейшую в мире типографию.
— Но он у вас? — шепотом спрашивает Декл.
Я показываю коробочку от карт.
— У вас, — выдыхает он.
Его потрясение быстро проходит: Эдгар Декл берет себя в руки.
— Ладно. Я думаю, мы сейчас все утрясем. Я думаю, справимся.
Он кивает своим словам.
— Вот только унесу их… — он берет со стола три тяжелых тома, все одинаковые. — И сейчас же вернусь. Сидите тихонько.
Поудобнее пристроив на груди свою ношу, он уходит туда, откуда пришел, оставляя свет включенным.
Я жду, разглядывая печатню. Тут чудный пол: мозаика из букв, каждая на отдельной плитке, глубоко вырезана. Алфавит под ногами.
Один из металлических ящиков крупнее прочих. На крышке я вижу знакомый символ: две ладони, сложенные книжкой. Зачем организации стараются все пометить своей эмблемой? Это как пес, помечающий все деревья. С Гуглом то же самое. И с «НовоБубликом» было.
Крякнув, я двумя руками поднимаю крышку. Ящик разделен на секции — длинные, широкие и абсолютно квадратные. Во всех в несколько слоев насыпаны металлические литеры: пузатенькие трехмерные буквицы, те, которые выкладываются в ряд на печатном прессе, составляя слова, абзацы и страницы книг. Неожиданно, я понимаю, что это за ящик.
Это Gerritszoon.
Дверной замок вновь щелкает, и я оборачиваюсь: Декл стоит, спрятав руки в складках мантии. На миг меня парализует уверенность, что он прикидывается, что он все-таки предал нас, и сейчас послан меня прикончить. Он исполнит приказ Корвины — может, размозжит мне череп гутенберговским прессом. Но если он намерен совершить Клэймороубийство, то отлично притворяется: лицо у него честное, дружелюбное и заговорщическое.
— Наследство, — говорит Декл, кивая на ящик со шрифтом. — Шикарно, да?
Он не спеша приближается к ящику, будто мы с ним просто решили потусить здесь, в глубоких катакомбах, и, протянув руку, запускает пухлые розовые пальцы в россыпь литер. Выбирает миниатюрную «e» и подносит к глазам.
— Самая используемая буква алфавита, — произносит он, поворачивая литеру и рассматривая со всех сторон.
Хмурится.
— Эх, поистерлась.
Сквозь скальную породу рядом проносится поезд метро, и вся комната дребезжит. Шрифт Gerritszoon звякает и осыпается: в отделении «а» сходит маленькая лавина.
— Не так уж их тут много, — замечаю я.
— Стираются, — поясняет Декл, бросая «e» обратно в ящик, — Старые буквы портятся, а новых мы не можем сделать. Мы потеряли оригиналы. Одна из главных трагедий нашего братства.
Декл смотрит на меня.
— Некоторые думают, что, если изменить гарнитуру, последующие книги жизни не будут действительны. Они считают, мы навечно привязаны к Gerritszoon.
— Могло быть и хуже, — говорю я. — Это, пожалуй, лучший…
Из читального зала доносится шум: бьет звонкий гонг и повисает долгое тягучее эхо. У Декла загораются глаза:
— Это он. Пора.
Декл осторожно закрывает ящик, тянется за спину и выдергивает из-за пояса сложенный квадрат черной материи. Это еще одна мантия.
— Надевайте, — говорит он. — И не высовывайтесь. Держитесь в тени.
Переплетение
В дальнем конце зала у деревянного помоста толпятся черные мантии — их десятки. Все тут? Переговариваются, шепчутся, двигают столы и стулья. Готовят сцену для какого-то действа.
— Ребятки, ребятки! — громогласно взывает Декл.
Черные мантии расступаются, давая ему дорогу.
— Кто грязи натащил? Вон как натоптали. Только вчера протирал.
Пол и впрямь сияет, как стекло, отражая разноцветные полки, превращая их в бледные пастельные блики. Смотрится красиво. Снова звучит гонг, и его звон отдается эхом под сводами пещеры, переплетаясь в суровый хор. Черные мантии выстраиваются перед помостом, где возвышается одинокая фигура — ясное дело, Корвина. Я пристраиваюсь точно за спиной высокого белокурого книжника. Ноут и смятый каркас Бурческопа спрятаны в сумке, висящей у меня на плече, скрытой только что выданным мне черным балахоном. Стою, низко склонив голову. Этим мантиям очень не хватает капюшонов.
На кафедре перед Корвиной лежит стопка книг, и он похлопывает по ней мощными пальцами. Эти книги минуту назад Декл принес из печатни.
— Братья и сестры Неразрывного Каптала, — возглашает Корвина. — Доброе утро. Festina lente.
— Festina lente, — шелестят в ответ черные мантии.
— Сегодня я хочу поговорить с вами о двух вещах, — продолжает Корвина. — И вот первая из них.
Он берет одну из книжек в синей обложке и поднимает повыше, показывая всем.
— После многих лет работы наш брат Зейд наконец завершил свою книгу жизни.
По кивку Корвины один из балахонов выступает вперед и поворачивается лицом к аудитории. Это мужчина за пятьдесят, крепкого сложения, насколько позволяет судить мантия. У него лицо боксера, с расплющенным носом и пятнистыми щеками. Должно быть, это и есть Зейд. Он стоит прямо, сцепив руки за спиной. Лицо напряжено: он изо всех сил старается держаться уверенно.