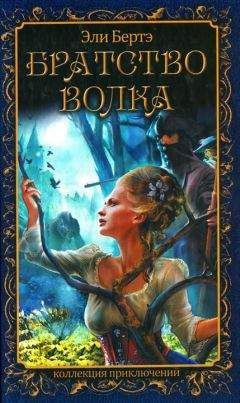Екатерина Лесина - Ошейник Жеводанского зверя
BioluX: Сам ты факты подгоняешь. Если выбросить следы, то все объяснимо. Смотри, Антуан Шастель действительно побывал в Африке у берберов, что возвращает к теории экзотического зверя или пары зверей, которых привез во Францию. Выдрессировал. Выпускал охотиться, а когда сел, то и зверь пропал – выпускать стало некому. И следы не обрывались, не надо гнать, указывали, что следы шли РЯДОМ, если ты понимаешь, что это такое. И снова доказывает, что Зверь был «одомашнен». А что Антуан исчез, так понятно, небось Шастель-старший испугался, что кто-нибудь додумается до проделок его сыночка, и сам же его пристрелил. Серебряной пулей. Для надежности.
GroSSmaster: Может, скажешь, что и ошейника не существует? Того, который Шастель из Африки привез, чтобы в волка обращаться? А я его сам видел!
BioluX: Не знаю, что ты видел, но лучше сходи, голову подлечи...
– Ирка, ты чего в такую рань? – Аленка зевнула и потянулась. – Интересное что-то?
Ирочка мотнула головой: нет, ничего интересного, взрослые люди не верят в сказку и перебрасываются фактами, словно мячиком, тщательно выстраивая теории на песке и закрывая глаза на нестыковки.
Но какое отношение имеет та, давняя история к нынешней Ирочкиной жизни? Совершенно никакого. Слепые страхи, вынырнувшие из слепой ночи, и в довершение – пропущенные звонки на мобильном телефоне.
Тимур. Хочет, чтобы она вернулась? И ведь вернется, не к нему убегая, а из дому, от бабки с ее навязчивыми наставлениями, от матери, которая уже проснулась – нервно стучат каблуки домашних туфель; от любопытной Аленки, от Лешки с его унылой и никчемной жизнью, каковая лишь отражение Ирочкиной.
И потому, когда телефон снова зазвонил, Ирочка сняла трубку.
– Алло? Да. Прости, но... да, случилось. Папа от нас ушел. Нет, я в порядке. Я скоро вернусь. Честно, вернусь!
– Слышал? Она вернется. Ну конечно, вернется. Куда ей от нас, правда? – Марат влажной салфеткой убирал кровь: подсохшая, та прочной корочкой стянула губы, кожу под носом, ссадину на левой щеке и костяшки пальцев. Марату досталось. Тимуру досталось. Ирочка испугается.
– Да ладно, со всеми бывает. Мир сейчас такой... опасный.
– Что я ей скажу?
Рыжая вода на белом фаянсе, потом надо будет все тщательно затереть... а привычка, однако, сказывается.
– Что-нибудь. Скажешь... ну скажешь, что возвращался домой, из подворотни вышли двое, потребовали бумажник. Ты не отдал. Случилась драка, – он легко сочинял, создавая новый слой реальности поверх прежнего.
– Мы будем заявлять?
Марат задумался, уставившись на отражение.
– Нет, – решил он. – Мы, конечно, законопослушные граждане, а потому должны бы, но, с другой стороны, зачем лишнее внимание? Хватит с нас твоей Ирочки. Посмотришь, эти игры до добра не доведут. И вообще, ты не забыл, что у нас с тобой еще одно дело...
– Почему только теперь? И какой смысл?
– Никакого. Но я не люблю незаконченных дел. Мы сходим туда завтра... нет, послезавтра, денек все же придется отлежаться. Не нервничай, Тимка, все будет хорошо. Все будет славно. Мы доделаем дела и уедем... пусть ищут ветра в поле, пусть ловят Зверя... хрен им!
Из своей комнаты Тимур не выходил сутки. Он слышал, что Ирочка пришла. Она ходила по квартире – бестолковое дитя – и даже, замерев по ту сторону двери, вежливо стучала, звала, спрашивала, все ли в порядке. Тимур молчал. Тимур боялся сказать правду.
Не все в порядке.
Его брат убивает. А он сам помогает прятать трупы.
Он любит брата. Он не может остановить брата. И поэтому убьет его. Обязательно убьет.
Моя супруга пытается со мной говорить, она начинает издали, ласково, словно с больным. Хотя, в сущности, я и в самом деле болен. Я чувствую, как день ото дня слабею, словно силы мои уходят на сотворение слов, и исписанные листы бумаги – вот уж и вправду никому не нужная безделица, забытая история, каковую перечеркнули иные, куда более ужасные.
Я, верно, мог бы писать о новейших временах в Лангедоке. О голоде, о разорении, о смуте, долетевшей из Парижа, о том, как ведьмин котел глотал души, сначала одни, потом другие, потом и вовсе без разбора. Я мог бы рассказать, как Зверь, истинный Зверь из пророчества Иоанна, вышедши на берег, хохотал всеми десятью головами, глядя на то, как корчится в муках моя страна. А дева в багряных одеждах, имя которой Революция, раз за разом извергала из чрева своего уродцев, нарекая их великими именами. И где они? Марат, Робеспьер, Руаньяк, который равен по духу и жестокости, пусть и стоит по другую сторону парижских баррикад. Где Дантон и Демулен? Где и вовсе люди, которые людьми остались? Нету. Исчезли. Сгинули. Убиты рукой своей матери. Или ее же убили, спеша смазать жернова народного блага кровью тех, кто неугоден народу?
Меня ярая дева не тронула. Меня не коснулись ни кровоточащие сердцами монархисты, ни пламенные душами революционеры, ни бездумные, почти безумные безбожники... они все словно чуяли Знак, оставленный на моем челе давними событиями. И как знать, не Зверь ли спас меня от Зверя? Не он ли позволил дотянуть до лет, столь преклонных, что сама мысль о возможности прожить столько видится невозможной? Мне уже почти восемьдесят лет, и я не могу сказать, что за эти долгие годы я сделал что-то, способное оправдать мое существование. Ни тогда, ни потом, ни ныне я не отличался храбростью или умом, я был трусоват и осторожен, слаб и склонен к долгим раздумьям, каковые, впрочем, часто приводили в пустоту. Я был... я был человеком.
Итак, в какой-то мере все вернулось на круги своя. Антуан, на следующий же день после нашего освобождения из тюрьмы в Соже, исчез из дому. Я, уже вышедший из повиновения, вновь ослушался отца и кинулся следом, тщась догнать брата и вымолить у него прощение, ибо полагал именно себя виновным в тех муках, каковые довелось ему перенести. Однако хижина на Мон-Муше была пуста, и только псы слаженным лаем приветствовали незваного гостя. Я был упрям. Я был чертовски упрям и потому, расседлав коня, отвел его под навес, сам же вошел в дом, решив во что бы то ни стало дождаться брата. Ожидание затянулось до самого вечера, а закончилось визитом и вовсе неожиданным. Сначала я заметил, что собаки, рычавшие и лаявшие весь день, должно быть от голода, поскольку я понятия не имел, чем следует кормить их, вдруг смолкли. Я решил, что это Антуан вернулся домой и, обрадованный, выбежал навстречу, опасаясь, что он, покормив животных, сбежит. Я не без оснований полагал, что Антуан не желает меня видеть и потому скрывается в лесу.
– Антуан! – закричал я. – Погоди, Антуан, мне очень нужно сказать тебе...
– Что сказать? – поинтересовался граф де Моранжа, просовывая сквозь прутья решетки заячью тушку. Пес, ворча и скуля, томясь и голодом, и страхом, бродил по ту сторону решетки, скалясь на нас, но не решаясь ухватить зайца зубами. Прочие же, все как один, легли и, покорные, не смели подать голос, ожидая своей очереди.
– Так что же ты хотел сказать Антуану? – повторил вопрос граф, отпуская зайца и переходя к следующей клетке.
– Ничего, что бы касалось вас!
Никогда прежде я не дозволял себе подобной грубости, тем паче в отношении человека, которому был обязан многим. Однако в тот момент я был зол, и злость туманила разум. Верно, де Моранжа понял это и, ничуть не оскорбившись, протянул мне корзину с убоиной, велев:
– Помоги. У людей многое может случиться, но это еще не повод, чтобы мучить животных... это редкая порода, во Франции почти неизвестная. А знаешь почему?
Я мотнул головой, не желая слушать этого человека, сейчас вовсе на себя не похожего. Исчез алый камзол, сменившись простым, суконным, бурого цвета. Исчез парик, выставляя собственные, редкие и изрядно седые волосы графа, собранные в небрежную косицу. Исчезли пудра и румяна, без которых это лицо стало строже. Теперь передо мной стоял не фат, не аристо, но человек своевольный, жесткий и где-то даже жестокий, человек с твердою рукой и стальною волей. Передо мной стоял полковник де Моранжа, губернатор Минорки, кавалер ордена Сен-Луи.
– А потому, – мягко заметил он, бросая в клетку очередного зайца, – что собак этих разводят берберы. Специально, чтобы те следили за рабами.
Сука темно-пепельного окраса, утянув добычу в угол клетки, теперь, рыча, пережевывала. Могучие челюсти с легкостью дробили хрупкие заячьи кости и рвали шкуру, а желтые глаза, в которых было больше человечьего, нежели собачьего, внимательно наблюдали за нами.
– Отменный нюх. Свирепость, которая сделает честь даже льву, – продолжал де Моранжа, с нежностью глядя на своих подопечных. – Просто поразительная выносливость... мне рассказывали, что они способны взять след недельной давности... и не только взять. Беглец может идти по воде, по песку, по мокрым скалам, он может надеяться, что дождь смоет запахи, пытаться обмануть их, посыпая следы табаком или пахучими травами...