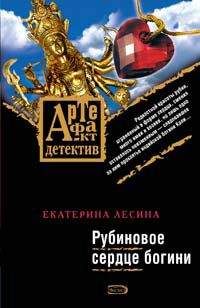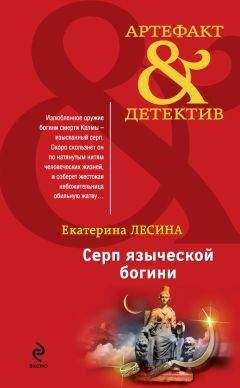Екатерина Лесина - Плеть темной богини
– Не смешно.
И вправду не смешно. За окном метет и завывает, скалится метель, брызгает слюною снежной, грызет тех, кому не досталось уголка в доме. А многим не досталось, потому что негде взять углов. Не вмещает людей прогнившее городское нутро, и кто-то сейчас, в эту самую минуту, когда мы с Вецким спорим о ненужном, подыхает в лапах метели. Или с голоду. Или от болезней, числа которым не счесть. Или по другой, новое причине, имя которой – несходство взглядов…
– Да, Егор Ильич, вы верно все поняли, правильно, – Вецкий присел на край табурета, облокотившись на стол. – Вы видите куда больше, чем виду подаете… а еще вы трус. Да, да, трус, который одна за одной находит причины, дабы оставаться в бездействии, точно тогда руки его будут более чисты. Вы хотите заботиться о больных и страждущих? Вы даже пригрели у себя старушку… Только, Егор Ильич, это ведь капля в море.
Да, капля, да, в бездонном море людских страданий, которые я обречен видеть и слышать.
– Вы могли бы… вы бы сумели… но вы не хотите мараться. Да, вам проще пользоваться тем, что имеете. Благодаря мне имеете! – он сорвался на крик: – Благодаря тому, что я не столь брезглив, как вы, вы можете притвориться благодетелем… но самому… использовать, что упало в руки, что пришло вот просто так, даром… если бы мне, я бы сумел. Да, я бы сумел и сумею!
Сумеет. Прежде всего, именно потому, что не брезглив и бесстрашен, он не испугался тогда, в семнадцатом, не отступит и сейчас, в двадцать первом. И в тридцать первом, если доведется дожить. И в сорок первом, каковой от меня несказанно далек…
Глядишь, и вправду светлый новый мир построят. А я останусь к тому непричастным.
– Дайте мне ее! Не хотите сами, так позвольте другому! Где вы прячете? Где?! – он схватил меня за плечи, сдавил, тряхнул. – Ну же, Егор Ильич, проявите благоразумие! Отдайте! Я… я сделаю так, что вы будете… вы спасете не одного, а многих. Милосердия ради… ради них…
Я отдал ему Плеть, хотя и не должен был. Я попросил прощения у той, что являлась мне во снах, и у храма, войти в который больше не сумею. Я теперь боюсь стаи, с того дня они знают, что я беззащитен…
Но Вецкий сдержит слово!
И он держал, почти девять лет держал, поднимаясь все выше и выше, покоряя, изменяясь, но позволяя мне делать то, что я умел делать.
А в тридцатом меня арестовали… и, наверное, это было правильно. В конце концов, никто не может жить вечно, боги и те уходят.
Последняя моя встреча с Вецким состоялась в тридцать третьем. Железнодорожный вокзал безымянного города. Рельсы, выползающие из тумана и в туман же уходящие, протяжные гудки то слева, то справа. И небо, вздрагивая от них, то и дело трескалось тучами, выставляя мутную синеву. И даже звезда была, у самой крыши, почти соскальзывая светом на красную черепицу, но все еще держась.
Мне было холодно и зверски спать хотелось, а вот к чувству голода, равно как и к усталости, привык. Нас выгнали на перрон, оцепили, оставили под низким небом, позволив дышать чем-то отличным от вязкого, кисловатого и лишенного кислорода воздуха вагонов, позволив стоять и любоваться чертовой звездой… Впрочем, похоже, только я, вконец обезумевший, смотрел вверх. Там, в вагонах, звезд не было, кроме разве что красно-колючих, патриотически верных и намалеванных на стенах.
– Егор Ильич? – в руку вцепились ледяные пальцы, в затылок дохнуло гнилью. – Егор Ильич, вы ли это? Вы… я думал, вас нету уже…
Меня давно нету, наверное, не стало в тот самый момент, когда ушла Машенька.
– Простите меня, простите, Егор Ильич…
И тогда я его узнал. И удивился, как это Вецкий, вальяжный и неспешный Вецкий, превратился в этакое подобие человека. Болезненно худой, впрочем, как и все здесь, но притом сгорбленный, скособоченный. В черных глазах уже не пламя – угли и толстый слой пепла сгоревших желаний. Губы дрожат, а клыков не осталось – повыбивали, повыдергивали, чтоб не огрызался. Тощая шея из серого ватника, который среди прочего тряпья, каковое выдают за одежду остальные, кажется роскошью. А пальцы ледяные, мертвые почти.
– Отобрали… все отобрали, сволочи. Пока она была со мной – не решались, а тут… – он сглатывал слюну, нелепо дергая шеей влево, ухом задевая встопорщенный воротник. – Не смели поначалу, боялись! А как Плеть украли, так и все…
– Кто украл? – мне стало вдруг жаль, нет, не Вецкого в его нынешнем убогом состоянии – ничем-то он не отличался от прочих, но Плеть, ту самую, обретенную случайно и отданную выкупом за сколько-то там лет жизни. Теперь мне понятно, что, как ни откупайся от них, все одно настигнут. И жизни, если разобраться, не было.
– Данцель! Данцель, скотина малолетняя… я его пригрел, я его вытащил, а он… он…
Брызги слюны, трясущийся подбородок – Вецкий зол, только злость эта мало что способна изменить. Кто такой Данцель? Хотя нет, не хочу я знать.
– Кто он без меня? Мальчишка… помощник… волчье племя… – продолжал бормотать Вецкий, судорожно дергаясь. – Пронюхал, пробрался, украл, донес…
Где-то далеко, там, где рельсы ныряли под туман, укрываясь в высокой щетине травы, завыли собаки, громко, печально, на десятки голосов. И люди, взбудораженные этим многоголосым хором, зашевелились, засуетились, затолкались.
– Мамочки! – заскулил кто-то рядом, не понять – мужчина ли, женщина. И крик этот подхватили, отразили десятки голосов…
Не стало больше тишины. Не стало храмов, лишь племя стигийских псов, вырвавшись на волю, расселилось по миру.
Что будет с ними? А с людьми? Что будет с миром этим?
И снова давнее, замолчавшее после утраты Плети знание подсказало ответ: а ничего. Выживет мир, угомонятся псы, передрав друг другу глотки, и станет во главе стаи сильнейший, и будет держать он власть столько, сколько сил хватит, а прочие в страхе отступят, лягут на пол несуществующего храма да морды в кровь опустят.
– Что? Что вы такое говорите, Егор Ильич? Опасно, опасно… услышат, донесут, головы не сбережете…
А чего ее беречь? Недолго уже, жалко, что холодно и что тучи звезду закрыли, ибо хороша была.
– Успокойтесь, Кеша, ничего-то не случится…
И я был прав. Собаки к утру утихли, туман рассеялся, осев на землю, травы, стену и одежду холодною росой, а ближе к полудню, когда сухое солнце распалилось вовсю, подогнали паровоз. Значит, снова рельсы, снова дорога, снова кислый воздух да мысли о будущем, какого нет ни у кого из нас.
На второй день пути умер, обессилев, Вецкий, спустя день я понял, что последую за ним…
День тянулся и тянулся, полз стрелками по циферблату, неторопливо щелкал шестеренками в разобранных часах. Зачем Магда их разобрала? Она ведь ничего не понимает в работе часов, но вот сняла корпус и, положив руки на стол, а голову на руки, наблюдала за тем, как движутся, стрекочут, раскатывают время плоские зубчики.
В голове было пусто, ну почти пусто – металась лишь одна мысль: нужно поговорить с Юленькой. Да, обязательно поговорить, но… потом, позже, еще немного тишины.
Она забыла уже, как любила это состояние одиночества, когда ни его, ни старухи, когда не хлопают, не скрипят двери, когда не хохочут, не орут пьяные песни люди, когда почти исчезает кислая вонь немытых тел и запах перегара… когда наступает мир.
Да, именно в эти минуты, пожалуй, она и была счастлива. И точно так же смотрела на часы, разобранные, оголенные и беспомощные перед пылью. Нет, у тех, старых, корпус украла не Магда, похоже, что он исчез задолго до ее появления в квартире, но ведь корпус – не главное. Главное – то, как нервно вздрагивают шестерни, шуршат, цепляясь друг за друга острыми зубчиками, колесики, как медленно натягивается пружина и как, послушные этим вроде бы несвязанным явлениям, движутся стрелки.
Потом – наверное, ей было уже двенадцать или даже больше – отец разбил часы, просто по пьяни, или даже нет, просто чтобы сделать ей больно. А старуха, сидя на кровати, хохотала, скалилась беззубым ртом, пуская пузыри слюны…
Как же хорошо было сбежать от них.
Как же привычно было убегать…
Магда, сжав голову руками, поднялась. Мыло-мыло-мыло… едкое хозяйственное мыло, семьдесят два процента щелочи… от нее руки сохнут и кожа на сгибах пальцев идет мелкими трещинками. От нее распухает язык, грозя забить горло. От нее Магда почти задохнулась и…
И нужно что-то делать. Уходить, бежать, сейчас, пока возможно, пока он просто по следу идет, пока не догнал, пока еще лишь дышит в спину, а не скалится.
Но как же она устала бегать!
Чтобы не бегать, нужно добыть Плеть. Чтобы добыть Плеть, нужно поговорить с Юленькой. Со Стефой-то бесполезно было и пытаться, но Юленька – другое дело. А чтобы поговорить, нужно выйти из квартиры. Всего-то и дел – переступить порог. Запереть дверь. Спуститься по лестнице. Выйти на улицу и дойти до серого дома, в котором должна была жить сама Магда…