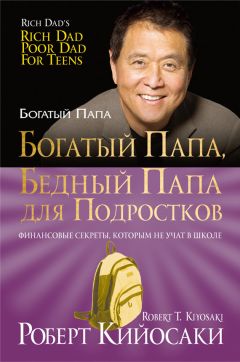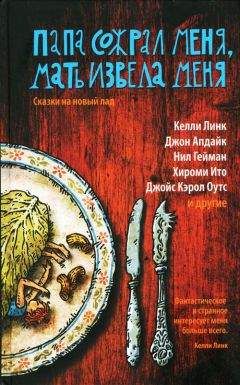Нара Плотева - Бледный
— Нет!!! — вскрикнул Девяткин, дёрнувшись, чтобы встать, и хотел уже объяснить про Лену, бросившуюся на шею, потом про нож и клоуна, и про бордюр, с которого неудачно слетел.
— Сядь! — толкнул его следователь. — Куришь?
— Да! — с готовностью ухватился он за повод к нормальному общению, хотя курить не хотел.
Следователь ткнул ему в рот сигарету и сам закурил. — Засиделись. Пора колоться… А что мы умные, докажу. Есть Эрос. Знаешь? Эрос — любовь. А знаешь про… — Он заглянул в журнал. — …Танатос? Он рядом. — И он похлопал вновь по чехлу. — Так смерть звать — Танатос. Теперь о том, почему ты убил, Девяткин… Фрейд пишет… или журнал пишет, но всё равно: «Стремление к удовольствию роковым образом является частью общего стремления живущего к возвращению в состояние покоя неорганической материи». Сложно? Я растолкую. Далее пишут: «Либидо втягивает в орбиту смерти… Эрос с Танатосом предстают как два инстинкта, чьим вездесущим присутствием характеризуется процесс жизни…» Понял? «Стремление к сохранению в покое, к прекращению внутреннего раздражающего напряжения находит своё выражение в сексуальном позыве, цель какового быстрей привести организм в состояние полной нирваны, то есть отсутствию всяких страстей и нужд». — Следователь мотнул журналом. — Наука! А по-простому, ты, когда хочешь секса, бесишься, а потом расслабляешься. Секс — расслабуха, да? Нет желаний, хоть подыхай. И спишь. Моя жена засыпает. Сон же, пишут в журнале, типа вид смерти… И тут начинается, Пётр Игнатьевич, главное… — Следователь склонился над ним. — Находится тот, кто, подобно вам, ловит кайф не только в том, чтобы трахнуть женщину, но и убить её — для нирваны. Себя — не убьёт, боится, а вот её — убьёт, чтоб, значит, её, как Будда, избавить от жизненных, дескать, мук. Нирвану ведь Будда выдумал. В смысле, что счастье — это не знать вообще нужд, как после секса.
В этом-то суть маньяка. Секс вообще — бой. Ну, а маньяк «логически завершает секс, добивая то, что без того насыщено». Женщину, успокоенную сексом, он убивает для полного и окончательного спокойствия. Ей на пользу. Чтоб хорошо ей было. Так маньяк думает. Это катарсис — очищение. Пишут, что возвышенное искусство очищает. Маньяка же очищает труп, который он считает итогом жизни, её венцом. Мы, с вами, Пётр Игнатьевич, что? Ищем удовлетворения — зная, что только трупы не знают нужд. Но мы боимся смерти. Своей боимся — а вид чужой на пользу. Было у вас ведь? Большое, пишут, блаженство и очищение в лике смерти! Возвышенное приходит на ум! Сдохла, мол, а я жив… И ревности нету. Убил — и знаешь, что ты у неё последний, так её трахнул, что ей никогда уже никого не захочется… — Следователь вплотную приблизил к нему лицо. — Какие ещё у маньяка чувства, Пётр Игнатьевич? А? Какие? Вы подскажите! Не дураки, поймём.
— Бейте… я не скажу… не знаю… — выплюнул сигарету Девяткин, поняв вдруг, что псих с ПМ под мышкой хочет, помимо Лены, взвалить на него все убийства на сексуальной почве в окрестностях Жуковки.
— Отказываетесь, что убили?
— Отказываюсь! — отрезал он.
— Где вы вчера, потому что уже, бля, четверг, а я всё тут с вами, были? И не трепаться!
— На работе.
— Ссаками пахнет! — Следователь, швырнув свою сигарету, прошёл за стол. — Из банка вы ушли в шесть.
— Я пил с другом… В баре.
— Какой бар?
— «Марс».
— Дальше!
— Я на такси…
Девяткин думал.
Допрос был о среде, о вечере. Он убил в среду утром. Стало быть, труп, который в чехле, найден тёплым? Закопанный же труп Лены или труп Кати в шкафу были бы к концу дня остывшими. Час «свежего» убийства установить просто. Следователь сказал: «свеженькая»… Здесь — не Лена! Девяткин вздохнул и выпрямился, как мог. Радость хлынула — он понял, что, если б нашли его близких, следователь давил бы жёстче.
Но, может, впрямь его хитро ловят и, пряча козырной факт, на него сваливают «висяки»? Мол, раз отрицал очевидное, так же будет лгать и в сомнительных случаях. Настораживало одно: если близких его не нашли, а следователь блефует, почему его бьют? Почему выволокли из дома, как пса? Так могли поступать с виновным, только с виновным…
Масла в огонь подливала гибель девушки, которую он подвозил. Если б не это, плюс вероятность, что Лену с Катей таят, как козырной ход, он сам повёл бы атаку, требуя адвоката. И всё же радовало, что в чехле не жена.
— После «Марса» вы сели в такси и… высадились гулять? Туман, а? Гуляется хорошо — с целями? Женщине рот зажал — и кайф. Туман, не надо даже в лесок волочь… Было, Пётр Игнатьевич? Где вы встретились? Что потом? Вы с ней до? после?
— К чёрту! — крикнул Девяткин, сопротивляясь тому, как упорно его топят.
Он думал: сказать ли о салоне? Кастальская многое вытрясла из него и многое предвидела — и могла всё открыть. Милиция к ней приедет. Вопрос: расскажет она им то, что чувствует, и поверят ли они ей? Но всё-таки салон — алиби. То, что он проторчал в салоне и даже там дрался, — алиби.
— Я был в салоне «Гнозис», — сказал он. — Малый Васильевский, три. Там вывеска. Гадалка. Кастальская Римма Павловна. Был у неё долго… А из Москвы уехал в одиннадцать. На такси. Номер не помню. О чем сожалею. Впредь буду запоминать приметы и номера автобусов… Виктор Игнатьевич, — поднял он голову, — если вы ей заплатите, она так увидит, что вы повесите на меня все российские убийства и, может быть, европейские. Она Фрейда знает.
Следователь шагнул к нему, чтоб ударить. Но он продолжал смотреть с усмешкой. Откуда-то взялась лёгкость — видимо, оттого, что в чехле не Лена или Катя, а кто-то чужой. Оттого, что поражение не состоялось, а он временно победил.
— Требую адвоката, — повторил он.
— Не рыпайся. — Следователь прошёл за стол и вынул лист. Девяткина опять охватил страх. Такой же лист, как оставила Лена. — Знаешь, что тут написано? Тут не Фрейд. Тут — за что таких сук, как ты, мочат…
— Требую адвоката, — твердил он.
— Понасмотрелись Америки, где про этих про адвокатов… — Следователь повёл плечом, поправляя ремни кобуры, и начал: — Тут заявление от гражданки Неёловой Александры Павловны. Ты её изнасиловал. К вам применили меру пресечения в виде задержания до выяснения обстоятельств. Словил? Адвоката по-прежнему звать? Будем колоться? Чистосердечное признание является смягчающим обстоятельством. В зоне будешь, бля, петухом.
— Бред, — твердил Девяткин потерявшим вдруг звучность голосом. — Я не знаю такую… Не знаю!
— Думаешь, ты один такой? Все врут, — следователь хмыкнул, — сперва… Понял, что я тебя здесь не просто так, а по факту, который пахнет серьёзнейшим уголовным делом? Как всё завязалось? Гибнет шлюха, ты её только что подвозил. Мы вызываем вас, вы открещиваетесь, ни при чём. Отпускаем. Вдруг этот труп, — кивнул он на стол, — и заява от пострадавшей. Не на меня, не на Сидорова — на вас…. Проблемное совпадение. Ещё в прошлый раз, Пётр Игнатьевич, стоило бы вас забрать в кутузку. Промашка… Сейчас бы и заявления не было, и убитой. Вам показать её?
Он мотнул головой.
— У вас доказательств нет. На этой… Неёловой… нет моих отпечатков… спермы нет.
— Нет. Потому что… — Следователь закурил. — …Пишет, что… Зачитать? Вы её, Пётр Игнатьевич, «в извращённой форме». Женщина в туалет сходила, рот сполоснула — и нет следов. Постирала одежду, чтобы отмыться. Думаете, будет с вашим дерьмом ходить? Я б вам руки не подал, не то что… Не любите вы, гад, женщин… Поправлюсь: любите, да не так… Адвокаты таких, как вы, защищать не рвутся! Женский вопрос — особенный. Вижу реакцию вашей жены, с ней тоже придётся общаться, как ни прискорбно. Дело серьёзное. Надо вызвать…
— Фото у вас есть? Истицы? — спросил Девяткин.
— Это другой расклад… — оживился следователь. — Опишете пострадавшую — следствие факт учтёт.
— Описываю. Лет тридцать, без макияжа, лошадиная внешность; может быть, бархатные штаны… Если и не штаны, то что-нибудь выходящее из ряда вон, что-нибудь простоватое, как у парня…
— Точно. — Следователь смотрел на фото. — Вы поумнели, будем работать. Вы мне напишете всё, как было. И вы пойдёте, Пётр Игнатьевич, в КПЗ с лёгким сердцем думать над жизнью.
— Когда я её насиловал?
— А ударение, Пётр Игнатьевич, на первом слове? Или на слове «её»? Ударение-то где? Если есть ещё жертвы, вы не стесняйтесь! Я ваш, поверьте мне, лучший друг! Как вас обрисую — так и пойдёте в суд.
— Пока эту… Неёлову… когда я насиловал? Не припомню… Чтоб сроки в заявлениях совпадали, — шептал Девяткин, поёживаясь. — Ведь разнобой, Виктор Игнатьевич, нам не нужен.
— Банковский спец! Любишь чёткость? Ты, Пётр Игнатьевич, — радовался следователь, — насиловал ночью, где-то под полночь в среду. Припоминаешь? Ай, как погано! Вышел ты от меня во вторник и, значит, день спустя опять за своё? Может, и эту узнаешь? — Следователь, рванув замок, так быстро открыл мёртвое выпачканное лицо с открытым синюшным ртом, что Девяткину почудилось, будто это Лена.