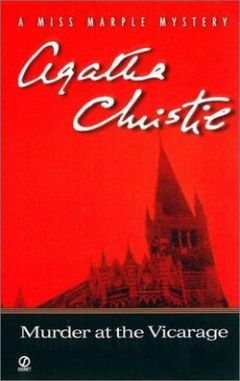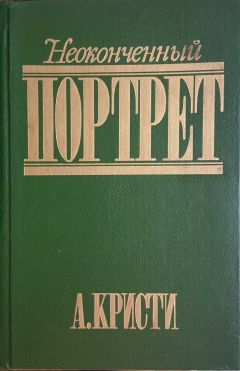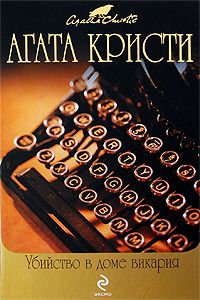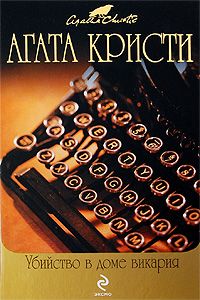Агата Кристи - Бремя любви
А Ллевеллин шел домой в глубоком замешательстве.
Какое странное чувство он испытал! Напичканный лекциями по психологии, он стал опасливо анализировать себя.
Сопротивление сексу? Откуда оно? За ужином он глядел на мать и гадал может, у него эдипов комплекс?[11]
Тем не менее перед отъездом в колледж он обратился к ней за поддержкой. Он отрывисто спросил:
– Тебе нравится Кэрол?
Вот оно, с болью подумала мать, но ответила сразу же:
– Она милая девушка; Нам с отцом она очень нравится.
– Я хотел ей сказать… на днях…
– Что ты ее любишь?
– Да. Я хотел попросить ее, чтобы она меня ждала.
– Нет нужды говорить это, если она любит тебя, детка.
– Но я не смог сказать, не нашел слов.
Она улыбнулась.
– Пусть тебя это не беспокоит. В таких случаях у мужчин всегда язык отнимается. Твой отец сидел и таращился на меня день за днем с таким выражением, будто ненавидел меня, и все, что мог выговорить, это «Как дела?» и «Хороший денек».
Ллевеллин хмуро сказал:
– Было не совсем так. Будто какая-то рука оттолкнула меня. Будто мне это запрещено.
Она все поняла. Она медленно проговорила:
– Может быть, она не та, что тебе нужна. О… – Она проигнорировала его возражение. – Трудно решить, когда ты молод и кровь играет. Но у тебя внутри есть что-то такое – может быть, истинная твоя сущность, – которая знает, чего тебе не следует делать, и оберегает тебя от тебя самого.
– Что-то внутри…
Он смотрел на нее с отчаянием.
– Я ничего не знаю о самом себе.
* * *Он вернулся в колледж. Дни его были заполнены работой или общением с друзьями, и страхи отошли. Он снова стал уверен в себе. Он прочел глубокомысленные труды о проявлениях юношеской сексуальности и успешно объяснил себе все про себя.
Колледж он закончил с отличием, и это тоже утверждало его в собственных глазах. И вернулся домой, уверенный в будущем. Он предложит Кэрол выйти за него замуж, обсудит с ней открывающиеся перед ним возможности. Он чувствовал невероятное облегчение оттого, что жизнь расстилается перед ним в ясной последовательности. Интересная работа, которую он сможет делать хорошо, и любимая девушка, с которой у него будет семья и дети.
Появившись дома, он окунулся во все местные развлечения. Они бродили в толпе, но в любой толпе он и Кэрол воспринимались как пара. Он редко бывал один, а когда ложился спать, ему снилась Кэрол. Сны были эротические, и он этому радовался. Все шло нормально, все было прекрасно, все – так, как должно быть.
Уверившись в этом, он встрепенулся, когда отец как-то спросил его:
– Что стряслось, парень?
– Стряслось? – Он уставился на отца.
– Ты сам не свой.
– Да ты что! Я себя отлично чувствую.
– Физически – возможно.
Ллевеллин посмотрел на отца. Сухопарый, отчужденный старик, с глубоко посаженными горящими глазами, медленно покачал головой.
– Временами мужчина должен побыть один.
Больше он ничего не сказал, повернулся и ушел, а Ллевеллина опять охватил необъяснимый страх. Он не хотел быть один. Он не может, не должен быть один.
Три дня спустя он подошел к отцу и сказал:
– Я поживу в горах. Один.
Ангус кивнул: «Да».
Эти горящие глаза – мистика – с пониманием смотрели на сына.
Ллевеллин подумал: «Что-то я унаследовал от него, о чем он знает, а я еще нет».
* * *Почти три недели он провел в пустынной местности, один. С ним происходили любопытные вещи. Однако с самого начала он нашел состояние одиночества вполне приемлемым. Даже удивился, почему он долго противился этой идее.
Во-первых, он много думал о себе, своем будущем, о Кэрол. Эти темы были увязаны между собой, но ему не понадобилось много времени, чтобы осознать, что он смотрит на свою жизнь со стороны, как наблюдатель, а не как участник. Потому что его хорошо спланированное будущее не было реальным. Оно было логичным, последовательным, но оно не существовало. Он любит Кэрол, желает ее, но он на ней не женится. У него есть другое дело, пока неведомое. После осознания этой истины наступила новая фаза – ее можно было бы описать словом «пустота», великая, гулкая пустота.
Он был ничто. В нем была пустота. Страха не было. Впустив в себя пустоту, он избавился от страха.
На этой фазе он почти ничего не ел и не пил. Временами ему казалось, что он теряет рассудок.
Перед ним, как мираж, возникали люди и сцены.
Пару раз он отчетливо видел одно лицо. Это было лицо женщины, она обернулась к нему в страшном возбуждении.
Великолепные, изящные черты, впалые виски и крылья темных волос, и глубокие, почти трагические глаза. Однажды он увидел ее на фоне пламени, другой раз сзади виднелись туманные очертания церкви. Он с удивлением увидел, что на этот раз она была еще ребенком. Он понимал, что она страдает. Он думал: «Если бы я мог ей помочь…» – при этом зная, что помощь невозможна, что сама эта мысль лжива, ошибочна.
Другим видением оказался стол в офисе – гигантский стол светлого полированного дерева, а за столом мужчина с тяжелой нижней челюстью и маленькими неподвижными голубыми глазами. Человек подался вперед, как будто собрался заговорить, подчеркивая свои слова линейкой, которой он размахивал в воздухе. Потом он увидел угол комнаты в необычном ракурсе, там было окно, а за окном сосны, покрытые снегом. Между ним и окном было круглое, розовое лицо мужчины в очках, он смотрел на него сверху вниз, но когда Ллевеллин попытался получше его разглядеть, картина растаяла.
Ллевеллин думал, что эти видения – плод его фантазии. В них не было ни смысла, ни значения – только лица и обстановка, которой он никогда не видел.
Но вскоре видения исчезли. Пустота перестала быть обширной и всепоглощающей. Она съежилась и приобрела значение и смысл. Он больше не дрейфовал по ее волнам.
Он впустил ее в себя.
Теперь он узнал нечто большее. И стал ждать.
* * *Пыльная буря налетела внезапно – такие бури возникают в этих местах без предупреждения. Она вихрилась, свивалась в столбы красной пыли, казалась живым существом. И закончилась так же внезапно, как началась.
После нее особенно ощутимой казалась тишина. Все имущество Ллевеллина унес ветер, внизу в долине, хлопая и вертясь как сумасшедшая, носилась его палатка. Теперь у него ничего не было. Он был совершенно один в мире, ставшем вдруг покойным и новым.
Он почувствовал: то, чего он ждал, вот-вот совершится. Снова возник страх, но не прежний страх, порожденный сопротивлением неведомому. На этот раз, храня в своей душе успокоительную пустоту, он был готов принять то, что будет ему явлено. Боялся лишь потому, что теперь познал, сколь мала и незначительна его сущность.
Нелегко было объяснить Уайлдингу, что же случилось дальше.
– Видите ли, для этого нет слов. Но я отчетливо знаю, что это было. Это было признание Бога. Я бы сравнил это с тем, как слепой знал о солнце со слов зрячих, мог чувствовать его тепло руками, но однажды прозрел и увидел его.
Я всегда верил в Бога, но теперь я знал. Это было прямое личное знание, не поддающееся объяснению. Для .человека – ужасающий опыт. Теперь я понимал, почему, приближаясь к человеку, Бог вынужден облечься в человеческую плоть.
Это продолжалось несколько секунд, потом я повернулся и пошел домой. Шел два-три дня, ввалился ослабевший и изможденный.
Он помолчал.
– Мать ужасно разволновалась, не могла понять, в чем дело! Отец, по-моему, о чем-то догадывался – по крайней мере, понял, что я получил некий духовный опыт. Я сказал матери, что мне были видения, которые я не могу объяснить, и она сказала: «В роду твоего отца были ясновидящие. Его бабка и сестра».
– После нескольких дней отдыха и усиленной кормежки я окреп. Когда другие заговаривали о моем будущем, я помалкивал. Я знал, что все образуется само собой. Я только должен буду принять его – но, что принять, я пока не знал.
Через неделю по соседству проходило большое молитвенное собрание. Мать хотела пойти, отец тоже шел, хотя и не слишком интересовался. Я пошел с ними.
Глядя на Уайлдинга, Ллевеллин улыбнулся.
– Вам бы это не понравилось – грубо, мелодраматично. Меня это не тронуло, я был разочарован. Люди по одному вставали и говорили о своих религиозных переживаниях. И тут я услышал приказ, явственно и безошибочно.
Я встал. Помню, ко мне обернулись лица.
Я не знал, что буду говорить. Я не думал, не рассуждал о свой веру. Слова были у меня в голове. Иногда они опережали меня, и мне приходилось говорить быстрее, чтобы не упустить их. Не могу передать, что это было. Если сказать, что пламя и мед, – вас это устроит? Пламя сжигало меня, но в нем была сладость подчинения – как мед.
Быть посланником Бога и ужасно, и сладостно.