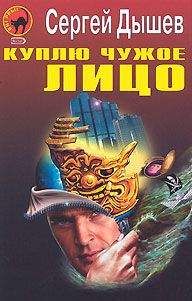Сергей Владимиров - Пожинатель горя
Мы долго молчали. Я думал обо всех жертвах Клоуна и еще о том, что он сам стал жертвой, и что процесс превращения уличного мальчишки в маньяка и психопата был заведомо необратим, и что по белу свету расползлось множество таких же отрыжек войны, и что вопреки лживым заявлениям правителей жить становится все страшней и страшней.
— Здесь замаячила еще одна смерть, — весьма оригинальным образом развеял мое мрачное настроение Вершинин. — Помнишь подсвечник, который мы обнаружили в куртке Клоуна? Вещь, ты правильно подметил, имеет музейную ценность. Первая половина восемнадцатого века, времена императрицы Елизаветы. Облапали мы его изрядно, так что путевых отпечатков пальцев найти не удалось. Но кое-что эксперты сказать смогли. Бурые пятнышки на основании — это кровь, вторая группа, резус отрицательный. А кроме того, они выявили микроскопические фрагменты кожи и мозга. Что им кому-то проломили голову, гадать не надо.
— Клоун бы отделался от орудия преступления, мало ли что, — размышлял я вслух. — Да и стиль не его. А здесь, получается, таскал с собой такую тяжесть. Зачем? Вряд ли он понимает что-нибудь в антиквариате.
— Напрашивается один вывод, — включился подполковник. — Наш маньяк получил подсвечник совсем недавно. Где и от кого — запишем в загадки. Но вполне возможно, Клоун даже не знал, что этой дурой кого-то замочили. У тебя, случаем, нет на примете какого-нибудь завалящего трупа, чтобы отвечал этим требованиям? — мрачно пошутил рубоповец.
Я все еще не решался вводить Вершинина в курс дела полностью, сомнения в том, что он ведет двойную игру, не оставляли меня. И, стараясь притупить бдительность рубоповца, я свернул разговор на той же черной юмористической ноте:
— Поройтесь в своих архивах, может, что и выудите. А я поищу новые трупы.
— Успехов тебе, — язвительно приободрил меня подполковник. — Кстати, Николину мы до сих пор не нашли. Ни малейших предположений, где она скрывается?
— Нет.
Он направился к своей старенькой «Ладе». Я провожал его в полном молчании. И лишь когда он забрался в салон, я поинтересовался:
— По делу Клоуна ты работаешь неофициально? У тебя с ним свои счеты?
— Как-нибудь я расскажу тебе об этом, — ответил Вершинин, поворачивая ключ в замке зажигания.
Мотор чихнул, кашлянул, колеса, провернувшись, плюнули серой снежной мокротой, «шестерка» оторвалась от обочины и влилась в поток других машин.
Действо двенадцатое. Галкин психологию изучает и…
Видимо, помехи на телефонной линии сильно искажали мой голос, делая его практически неузнаваемым, во всяком случае, Наталья Семеновна Фирсова на мою просьбу позвать к аппарату мужа не ответила категорическим отказом.
— А кто его спрашивает? — все же предусмотрительно осведомилась она.
— С работы.
— Не понимаю. Володя написал заявление на административный отпуск. Зачем он может понадобиться?
Интересно, как бы она заговорила, если бы ее благоверного вызывала Друзина?
— Утрясти кое-какие вопросы служебного характера, — терпеливо объяснил я. — График дежурств и прочее.
— Будто сами не можете, — прокряхтела бдительная женушка, но мужа позвала.
В отличие от нее Фирсов сразу догадался, кто беспокоит его, однако своей осведомленности ничем не выдал, сообщив, что сейчас же выезжает. На другом конце провода, над ухом отставного полковника, его супруга что-то недовольно бубнила.
— Разве можно быть таким безотказным… — расслышал я обрывок ее нотации.
Я назвал место, где только что встречался с Вершининым. Пробуждающаяся от зимней спячки природа раскрепощала, способствовала откровенности, к тому же здесь нас никто не мог подслушать.
Появился начальник службы безопасности лишь через час. Его раритетная двадцать первая «Волга», будто только что сошедшая с конвейера, блестя хромом и никелем, отражая солнце округлыми бортами, как белый пароход, медленно вплыла на охраняемую стоянку, прилегающую к парку. Презирающий роскошь отставник имел свои маленькие слабости и подобным своим появлением мог поразить даже сильнее, чем если бы восседал за баранкой тупорылого гламурного «бентли». Коренастый, коротконогий, Владимир Михайлович направлялся ко мне навстречу пружинистым шагом, и я подумал, что годы, превратившие его жену почти в старуху, не властны над ним: прекрасно сохранивший физическую форму, он может дать сто очков вперед поколению подрастающему, у которого отдых и развлечения выдвинулись на первый план, а тела отощали либо оплыли. Так ли он крепок внутри, как снаружи? Пока я был лишь свидетелем неусыпной бдительности Натальи Семеновны да его упрямого, перерастающего в бунт сопротивления, которое могло оказаться всего-навсего игрой на публику.
— Извините, что заставил вас так долго ждать, — произнес, здороваясь, Фирсов. — С Натальей стало совершенно невозможно жить, всё ее извечная мнительность, неискоренимая привычка лезть куда ее не касается… Пока я одевался, она додумалась позвонить Алевтине и начала выяснять, с чего меня вдруг вызывают на работу. Та, разумеется, сказала, что ничего подобного не было. В результате — скандал. Я собрал вещи и сказал Наталье, что ухожу от нее, что следовало сделать уже давно. У меня приличная пенсия, с голоду не загнусь, а быть вечным холуем в их семейке… увольте. Не знаю, зачем вы позвонили, но это стало предлогом сбежать из этого чертова дома. Здесь имеется какое-нибудь приличное кафе? Я должен немедленно выпить.
Я покосился на его машину.
— Не волнуйтесь, — понял меня Владимир Михайлович. — Я за рулем больше тридцати лет. Сто граммов не повредят, и контроль я не потеряю. Вчера вы взглянули на нашу семейную жизнь без прикрас — ругань, жалобы, обиды… У нас так всегда, я уже не помню, чтобы было иначе. Наталья постоянно влезала в разговор, не давала мне сказать то, что думаю. Потом я всю ночь не спал, опять в мыслях возвращался к дочери. Мне не в чем винить себя, я был нормальным отцом, другое дело, что ни такой отец, ни такая мать были Кристине не нужны.
Губы Фирсова превратились в жесткую, белую, без единой кровинки складку. Я не перебивал его. Отставному полковнику нужно было выговориться, и я был единственным человеком, которому были интересны его переживания.
Кафе мы нашли, небольшое, чистенькое, расположились за дубовым столиком, и Владимир Михайлович заказал две порции шашлыка, обильно посыпанного зеленью и густо политого острым пряным соусом, душистый горячий лаваш и графинчик водки. Я сказал, что не голоден, но начальник службы безопасности сердито сверкнул на меня глазами.
— Есть самому, когда кто-то заглядывает тебе в рот, — это жлобство. С выпивкой решайте сами. — Он тут же наполнил себе рюмку и незамедлительно выпил. Повторил. К шашлыку не притронулся. — Может, вы шокированы моим откровением… Просто я устал ото лжи самому себе. — Румянец, приливший к его щекам, был нездорово багровым. — Родителям свойственно всячески превозносить своих детей, выставлять их этакими ангелами, но я смотрю на вещи реалистично. Кажется, я уже говорил вам, мы с Натальей не были сильно близки с дочерью, особенно когда она повзрослела и стала добиваться этих сомнительных успехов. У нас и характеры разительно отличались. Да что мы… Она не походила и на тетку, которая так трепетно взращивала ее, готовила для звездной жизни. Алевтина все же куда мягче, человечней, конечно, здесь сказалось другое воспитание, да и время, в которое мы росли. Кристина всегда добивалась поставленных целей и в средствах была неразборчива. Ее настольными книгами были Макиавелли и Ницше. Что же касается материальных благ, пошлых проклятых денег, она никогда не западала на них, в отличие от матери. Относилась к богатству, накопительству скорее с презрением. Ей нужны были слава, признание, всеобщее преклонение, а деньги к этому неизбежно приложатся. Что же вы не едите?
Я принялся за шашлык, не чувствуя его вкуса. Пережевывал горячие, сочные куски зажаренного мяса, а Фирсов плескал в маленькую рюмку прозрачную маслянистую жидкость, проглатывал ее как воду. К своей тарелке он по-прежнему не прикасался.
— Кристина все школьные годы училась на «отлично», и не потому, что ей нравились науки, а потому, что всегда и во всем стремилась быть первой, — рассказывал Владимир Михайлович. — Поступила на философский факультет, и опять чтобы выделиться среди окружающих, разрушить сложившийся стереотип, что красавицы поголовно глупы как пробки. Я не помню, чтобы у нее когда-нибудь были подруги и друзья. Одних она считала тупыми обывателями, в других, успешных, таких же целеустремленных, видела своих конкурентов, и они в одночасье становились врагами. Были ли у нее любовники? Здесь сказать ничего не могу. Целей она добивалась как угодно, но только не через постель. Подобные предложения унижали ее достоинство, случай с Ланенским — главный тому показатель. Вряд ли она могла связать свою жизнь с одним человеком. Брак подразумевает взаимные уступки, а тут бы все свелось к нескончаемому противостоянию, стремлению доказать, кто круче. Тряпку рядом с собой она бы не потерпела, о такую же несгибаемую личность сломала бы зубы. Да и о каком браке могла идти речь? Свободу и независимость она ценила больше всего.