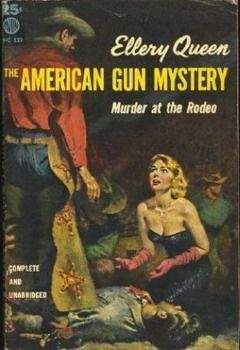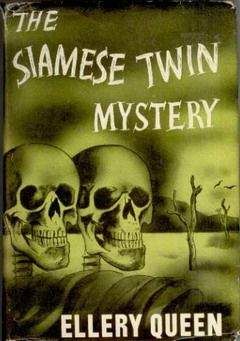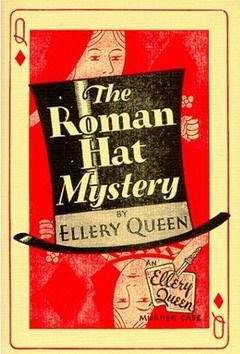Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 3-4)
И отвернулась. Ухажер не пришелся ей по вкусу. Или же (подсказало прапорщику самолюбие) ей сейчас вообще было не до ухажеров — мадемуазель ждала заказчика, чтобы передать фотопластину.
Но отступать было поздно, да и досадно. Все равно он уже, выражаясь фотографически, засветился. Через два столика Мальдорор гладил свою Экстазу по щеке, и та терлась о его руку, как кошечка. Очевидно, здесь нужно действовать понаглее.
Романов взял Алину за почти бесплотную, птичью лапку. Наклонился.
— Как тебя зовут, беспутная? Так и сорвал бы с тебя одежды…
Она выдернула руку.
— Идиот! Сиди молча или катись. Видишь на столе кнопку? Нажму — прибежит Мефистофель.
— Кто?
— Вышибала. Возьмет за шиворот и выкинет на улицу, как нашкодившего щенка. Рядом со мной сидеть нельзя. Передвинься!
Всё это Шахова проговорила, глядя в сторону — на сцену, с которой наконец ушла тоскливая певица.
Мефистофель — это, наверно, двухметровый черт, что стоит у входа, сообразил Алексей и против воли разозлился. Ну и стерва эта Алина!
— Никто не смеет так разговаривать с Армагеддоном… — угрожающе начал он, но худой палец Шаховой потянулся к кнопке, и Романов поспешно пересел на соседний стул.
Сцена с участием вышибалы ему была совершенно ни к чему.
— Ладно. Пускай между нами зияет пустота, — примирительно сказал прапорщик, довольный, что придумал такую отличную декадентскую фразу.
Но Алина вдруг приподнялась и громко захлопала в ладоши.
Хлопали всюду. Пронзительные женские голоса экзальтированно выкрикивали:
— Селен! Селен! Просим!
Электрический свет померк. Заиграла тягучая, сонная музыка. Через весь зал, рассекая сумрак, прочертился луч, от стены до стены. К концу он расширился и заполнил светом белый прямоугольник — кто-то закрыл кривое зеркало позади сцены киноэкраном.
Выплеснувшийся из земли фонтан земли, черные комья во все стороны. Человечки с разинутыми ртами, с винтовками наперевес. Тонущий в море миноносец. Длинный ряд деревянных гробов, священник с кадилом. Травянистое поле, сплошь покрытое трупами. Пулеметное гнездо: ствол “максима” сотрясается, пулеметчик бешено разевает рот — что-то кричит. Но не слышно ни криков, ни пальбы, ни разрывов. Лишь журчит меланхоличное фортепьяно да сладко подвывает скрипка.
Кинохроника войны заставила Алексея на несколько мгновений забыть о задании, о клубе-кабаре, о колоритных соседях. Он побывал там, где убивают и умирают, видел всё это собственными глазами. Он лежал на таком поле, из его простреленного тела горячими толчками била кровь.
Передернувшись, Романов поглядел по сторонам. Публика заинтересованно смотрела на сцену, словно ей показывали какой-то забавный, оригинальный аттракцион.
“Эх, господа белобилетники, папенькины сыночки, уругвайские, мать вашу, подданные, — мысленно обратился прапорщик к детям полунощного светила, — взять бы вас всех, да в маршевую роту, да на фронт! А барышень — в госпиталь, за ранеными ухаживать”. Но представил себе этакого Мальдорора в обмотках, со скаткой через плечо, Экстазу в переднике с красным крестом и сам фыркнул. Как-нибудь обойдется медведица-Россия, лесная царица, без таких защитничков. У всякого крупного зверя в шкуре водятся блохи и прочие мелкие паразиты. Лишь бы не энцефалитные клещи.
Он перевел взгляд на Шахову. Та по-прежнему аплодировала, слабо и беззвучно сдвигая узкие ладони. Ее губы были растянуты в вяло-выжидательной улыбке.
Оказывается, хроника была всего лишь заставкой к номеру. Из-под рампы начал сочиться голубоватый холодный свет. Экран побледнел, картинки войны не исчезли, но превратились в призрачный фон, в задник.
На сцену под аплодисменты и крики (“Селен! Селен!”) плавной походкой вышел человек с неестественно длинным брезгливым лицом. Одет он был настоящим денди — черный смокинг с атласными отворотами, белая накрахмаленная рубашка. Только вместо галстука на шее толстая и грубая веревка висельника.
Человек изящно отбросил со лба длинные волосы, властно взмахнул рукой в белой перчатке, и шум в зале смолк.
Фортепьяно заиграло живее, вкрадчивей. К скрипке присоединился фагот. Но музыкантов было не видно. По бокам с обеих сторон стояли белые, разрисованные хризантемами ширмы, прикрывая вход за кулисы.
Будет петь, подумал Романов. Но висельник не запел, а протяжно, подвывая и растягивая звуки, продекламировал:
Косит поле сорное
Девочка проворная,
Девочка веселая
С длинною косой.
Из-за ширмы, подбоченясь, выплыла павушкой дева в русском сарафане. Лицо у нее было закрыто белой маской: скалящийся скелет. Девочка Смерть покружилась в танце, потянула себя за длинную-предлинную золотистую косу — и выдернула. Коса была прямая — очевидно, с металлическим стержнем. Танцовщица согнула ее на манер буквы Г и стала размашисто косить воображаемую траву.
Ага, это мелодекламация с пантомимой, понял Алексей. Модный жанр.
Все равно ей, ветреной,
Лопухи ли, клевер ли,
Злаки или плевелы,
рожь или фасоль.
С другой стороны сцены появился некто в облегающем костюме из серебристой чешуи. Распластался по полу, заизвивался: то скрутится кольцом, то за-змеится ручейком, то выгнется дугой, то подкатится Смерти под ноги, то метнется прочь. Казалось, что в теле искусного мима нет костей, а если и есть, то резиновые.
Змейка серебристая,
Чистая, искристая,
Увернется, выскользнет из стальных сетей.
Лишь трава ленивая,
Пошлая, тоскливая
Ляжет — не поднимется.
Ну и черт бы с ней.
Голос чтеца был рассеян и монотонен, сонные движения дисгармонировали с грациозным танцем Смерти и виртуозными извивами человека-змеи, но зрители смотрели только на поэта. Очевидно, он был главной здешней знаменитостью. Алексей Романов в последние месяцы был слишком занят учебой и совсем перестал следить за литературно-художественными событиями столичной жизни, однако теперь припомнил, что имя “Селен” ему где-то уже попадалось — не то в газетах, не то на уличных афишах.
Выкосить бы начисто
Поле. И не спрячется
Мелочь бесполезная — тля да саранча.
Только даль высокая,
Только в небе соколы,
И скликает мертвых песня трубача.
Селен всплеснул рукой — за кулисами потусторонним, мертвым зовом засолировала труба. Человек-змея изогнулся на животе, взял себя руками за носки и укатился прочь. Девочка Смерть тоже выкинула трюк: с ловкостью акробатки прошлась по сцене колесом. Из-под сарафана мелькнули стройные, крепкие ноги.
Номер окончился. Дети Луны хлопали стоя, барышни даже взвизгивали.
— Божественно! Браво, Селен! — тонко крикнула Шахова, рупором приложив руки ко рту.
А на вкус Романова, номер был оригинальный, но не более того. Честно говоря, больше всего Алексею понравились ноги танцовщицы — по крайней мере, нечто живое, земное, посюстороннее. Впрочем, как уже было сказано, прапорщик отстал от новейших веяний в искусстве и вообще огрубел чувствами за год военной жизни.
Небрежно покивав публике, поэт спустился в зал и направился к центральному столу. Подставил Алине щеку для поцелуя, устало опустился на стул. Помахал поклоннице, славшей ему издалека воздушные безешки, кивнул другой, отвернулся от третьей.
Алексей рассматривал любимца дев прищуренными глазами. Раз господин Селен близок с Шаховой, значит, он заслуживает сугубого внимания. Выходит, стол резервирован не для Алины, а для поэта?
— Я в изнеможении, — пожаловался певец смерти, подставляя лоб, чтобы Шахова вытерла пот. — Как я выступал?
— Божественно, — повторила она, но уже без восторга, а словно машинально. — Как всегда.
Странно, но ее взгляд по-прежнему кого-то высматривал, всё шарил по залу. Быть может, она ждала так нетерпеливо вовсе не Селена?
— Ненавижу слово “всегда”. От него веет безысходностью. — Поэт оттолкнул ее руку и воззрился на Романова, словно на муху или таракана. — Господи, это еще кто? Ты ведь знаешь, я не выношу чужих!
Барышня поставила перед ним “Цикуту”, незадолго перед тем принесенную официантом.
— На, выпей. — Ее рука рассеянно легла длиннолицему на плечо. — Подсел какой-то, из Костромы. Пускай. Он дурачок, но забавный.
Сочтя, что взаимное представление состоялось, Алексей недоверчиво спросил:
— Скажи, брат, ты правда считаешь человечество сорным полем, которое нужно выкосить?
Селен пригубил, поморщился — вынул и бросил на скатерть черную ромашку.
— А. что с ним еще делать? Слишком много пошлых, не-чувствующих, не-живущих. Раз все равно не живут, пускай подохнут. Пусть их испепелит молния мировой катастрофы. После грозы легче дышать.