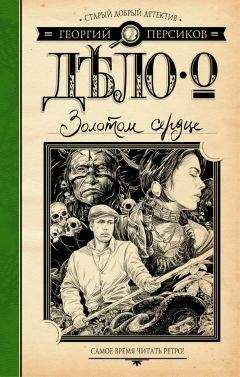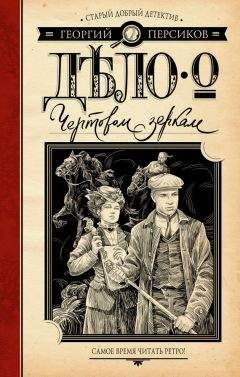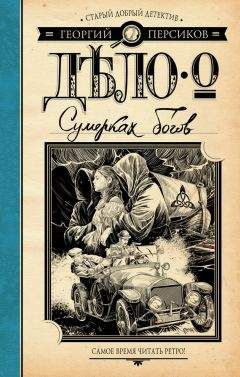Георгий Персиков - Дело о Медвежьем посохе
Голод будто когтями терзал отощавшие животы арестантов и все быстрей гнал их на юг. Идти предстояло еще более ста верст. Там, на берегу Татарского пролива, стояла рыбацкая деревня гиляков, коренных обитателей Сахалина. В деревне каторжники рассчитывали разжиться лодкой, стащив ее ночью, пока спят простодушные рыбаки. Там же можно было попробовать украсть и зарезать одну из жирных гиляцких собак. При мысли о жареной на костре собачатине рот мгновенно наполнялся слюной. Но все это потом, а пока – впереди сто верст тайги, а еще скалы и отчаянная переправа на рыбацкой лодке через своенравный и опасный пролив. Это неделя пути – неделя для сытого и здорового мужчины, а отощавшие беглецы в разбитых ботинках еле плелись, теряя силы день ото дня. Голод и слабость в них приглушало только одно чувство – угрюмая решимость покинуть ненавистный остров любыми средствами. Чего бы это ни стоило, попасть на спасительный материк.
К вечеру усталость и опускавшаяся глухая тьма вынудили их сделать привал. Каторжники обессиленно сгорбились у костра, протянув к огню сырые обмерзшие ноги. Пошла по кругу железная кружка с кипятком. Горячая вода помогала на короткое время обмануть воющий от голода желудок и согревала изнутри. Путники слегка повеселели, размякнув от тепла. Завязался разговор. Все больше вспоминали каторгу, потом, подбадривая друг друга, рассказывали истории удачных побегов, благо примеров было полно. Чтобы сбежать с Сахалинской каторги, большого ума было не нужно. Бежали часто и повсеместно, не стерпев невыносимой работы, издевательств, либо просто по лиходейской натуре. За беглецами частенько даже не высылали погоню. Зачем? Все равно весь остров – одна большая тюрьма, из которой нет ходу. Неприветливый и унылый край. Суровый климат и скудная природа не позволяли человеку прокормить себя, и многие удачливые беглецы, обезумев от голода и холода, в итоге добровольно возвращались на каторгу. Иные просто пропадали без вести в дремучих лесах и, возможно, до сих пор скитались там бесплотными призраками. О такой судьбе даже и думать не хотелось.
Жало почесал отросшую за последние дни бороду, плюнул в костер и начал рассказывать очередную каторжную байку, которых он знал, как казалось, не меньше тысячи.
– Вот, значит, дело-то было на строительстве Онорской дороги. Бежали два каторжника, из бессрочников. И будто след простыл. В окрестных деревнях ничего не воровали, скот не пропадал. Так и забыли о них потихоньку. Видать, решили – померли с голоду. А через две недели вдруг один из беглых объявился, неподалеку, в слободе. Забрался ночью в дом к поселенцу, который бобылем жил, и хотел ему красный галстук сделать, глотку перерезать, значит. А тот сам окажись из бывших каторжных, причем на каторге «иваном» был, даже надзиратели его боялись. Ну он беглому-то потроха и выпустил его же ножиком. Следователи потом дознаться не могли, за каким лядом он к бобылю в дом полез? У того из богатства-то было табуретка да икона на стене.
Жало сорвал с дерева одинокий пожухлый листик, пожевал.
– Да дальше-то что? – прошептал, облизывая пересохшие губы, Морошко.
– Стали второго, который с ним бежал, по окрестному лесу искать, – усмехнулся высокий беглец и поправил повязку на руке. – Нашли к вечеру, в паре верст от слободы. Мертвого. Возле кострища. И руки-ноги отрезаны. А рядом… – Он сделал театральную паузу, печально глядя в огонь. – А рядом мешок с жареной человечиной. И кости. Оказалось, изверг его целую неделю ел, по кусочкам. А потом, видать, вкус почувствовал к скоромному, пошел в слободу, за свежатинкой. Смекнул, что бобыля долго не хватятся, и полез резать его, как порося на свадьбу. Да только не на того напал.
Морошко слушал историю с мрачным лицом, глядя в землю. Колесо же, напротив, хмыкал, крякал, качал головой, а в конце, когда Жало стал делать страшные глаза и нагонять страху, вовсе откровенно захохотал, обнажив белые крепкие зубы, над которыми оказались не властны даже годы каторги.
– Да, Жало, мастер ты сказки рассказывать. Тебе только детей и старух беззубых пугать такими рассказами. Работал я на Онорской дороге и что-то не помню такого случая. Зато другую историю помню.
Колесо сидел перед костром, освещенный сполохами огня, распахнув зипун на широченной могучей груди, поросшей густым курчавым волосом. Каторга не смогла отнять у него своеобразного обаяния, саженные плечи не стали покатыми от непосильной работы, жесткие черты лица нордического богатыря не утратили благородства. Только в глазах появилось что-то новое – хищный блеск, яркая искорка безумия. Это были глаза крупного матерого хищника, тигра или медведя. Хищника, отведавшего крови, узнавшего вкус убийства и полюбившего его.
– На Онорской дороге это было, только взаправду. – Колесо подмигнул Морошке, который теперь глядел на него, как кролик на удава. – Бежало трое каторжников, по сговору. И проводник их ждал подкупленный с припасами, и лодка была приготовлена. Только вот то ли мало заплатили гиляцкому охотнику и струсил он, то ли попросту заплутали беглецы, теперь неведомо. Так что оказались они в тайге без жратвы и без помощи. Шли-шли, хотели до воды добраться, а там – как повезет. А тут, как назло, возьми один из них да и захворай. Кашляет, как старый пес, идти не может, бросьте меня, говорит, знать, конец мне пришел. А то как же, бросим, подельнички его переглянулись, пошептались да и зарезали его быстренько, чтобы не мучился. А после куски мяса, что получше, срезали, нарвали крапивки молодой и сварили щи из своего приятеля. Тем и выжили. Добрались до побережья, да там и сдались солдатам, дело-то нехитрое, дальше Сахалина не сошлют. Только об деле этом больше ни один из них никому не рассказывал. До сегодняшнего вечера.
Морошко, завороженно следивший за рассказом, на последней фразе вдруг резко побледнел и отпрянул от костра. Колесо, довольный произведенным эффектом, снова рассмеялся густым басом. Смех неприятно замер в безмолвных сумерках. Вдруг он повернул голову и глянул на другого беглеца.
– Что это ты, Жало, побледнел так? Может, плечо нарывает? Давеча вроде жаловался. А?
Жало засмеялся в ответ, визгливо и преувеличенно громко. Черные суетливые глаза его забегали, а рука метнулась к заскорузлой повязке на раненом плече.
– Да что там, царапина. – Жало неожиданно засуетился, стал подбрасывать валежник в костер, поправлять безобразно дырявые портки. Только взгляд его все бегал по полянке, не зная, за что зацепиться, только бы не смотреть в страшные, немигающие глаза Колеса.
Неожиданно в поле зрения Жала попал Морошко, все так же сидящий на бревне, опустив глаза долу. Вот его шанс на спасение. Если Колесо задумал недоброе, а он задумал – вон как улыбается, зубы скалит, и глаза будто пуговки стали, – то лучше пусть Жало будет у него в приятелях, чем безвестный воришка. Достаточно было взглянуть на могучую фигуру Колеса, на его быстрые уверенные движения, чтобы понять – никаких шансов против северного великана ни по раздельности, ни вместе у них не было.
Разбойник в эти мгновения напоминал индейского идола, блики костра бросали резкие тени на его лицо, а в глазах отражалось веселое безумие. Не выдержав давления тишины, Жало обратился к Морошке с деланой бодростью:
– А ты, Остапка, чего молчишь? Неужто тоже про изувера не слыхал? Известная история-то была.
Тот встрепенулся и, подслеповато щурясь, уставился сквозь огонь куда-то в темноту.
– Знатный был разбойник, тоже хохол. Крови на нем – аж море-окиян. Апостолом кликали. Эй, да ты прикемарил, что ли, лапоть?
Остап Морошко, и на каторге-то имевший всегда самый жалкий вид, после нескольких дней в тайге выглядел просто плачевно. Одежда изодралась об острые сучья бурелома, ботинки просили каши не меньше, чем их обладатель. Вообще он как-то съежился еще больше обычного, посерел и замызгался.
Теперь уже нельзя было точно сказать, то ли ему тридцать лет, то ли все шестьдесят. Из-за привычки добавлять подобострастное «с» в конце своих «да-с» и «нет-с», выдававшей в нем бывшего мелкого чиновника, и заикания Морошко стал потехой для всей каторги и в последнее время взял манеру, кроме необходимых случаев, молчать, уставившись в сторону. Ни дать ни взять призрак человека.
Жало разглядывал своего товарища по несчастью, дивясь, как этакий дохляк умудрился столько дней бежать с ними по тайге. Только сейчас, после рассказа Колеса, до Жала стало доходить, зачем здоровяк-лиходей потащил с собой с каторги это недоразумение. Хилый арестант был просто ходячей консервой, припасенной в дорогу. Сразу вслед за этим сердце Жала екнуло от другой мысли: а не был ли он сам походной закуской?
Наконец Морошко понял, что вопрос обращен к нему, и, удивленно поморгав, начал сбивчиво тараторить:
– Я? Нет-с, не слыхал никогда, нет-с. Апостол-с? Нет, я только двенадцать оных знаю, да еще Андрея Первозванного. Да мне ж простительно, я же первоходом-с здесь, как изволили выразиться. Человек к каторжному делу непривычный, в порядках несведущий. Не обессудьте-с.