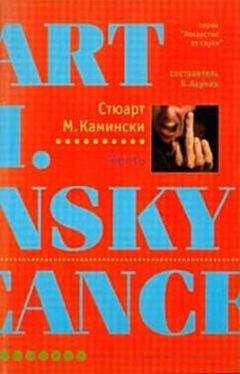Стюарт Каминский - Ошибка Либермана
— Ученой книгой, — сказал Мэйш, глядя в пространство.
— Словно вчера все было. Ты сломал ему нос и руку. И тебя на месяц исключили из школы.
— Славный был месяц, — сказал Мэйш. — Хочешь напомнить мне добрые старые времена, Аврум? Не так уж они были хороши. Тесная квартирка, полная людей и крыс. Польские мальчишки, ждущие на другой стороне Девятнадцатой улицы. Черные ребята на Кроуфорд-стрит так и смотрят, не перейдешь ли ты на их сторону. Чуть ли не картой приходилось пользоваться, чтобы безопасно добираться до Института еврейского народа на Дуглас-стрит. Эти добрые старые времена, слава Богу, прошли.
— Мэйш, — позвал Эл Блумбах, — налей-ка еще кофе.
Мэйш кивнул. Тучи еще сгустились, рокотал гром.
— Как у Йетты с почкой? — спросил Либерман.
— Пока работает, — ответил Мэйш, направляясь к кофейнику.
— Завтра зайду, — пообещал Либерман. Он встал и взял свой пакет.
Мэйш кивнул и двинулся с кофейником к кабинке, где сидели атеисты.
Дождь хлынул, когда Либерман вышел на улицу. Перед «Кореан девон телевижн — Ремонт видеомагнитофонов» и магазином «Доллар», владельцем которых был Ким, расправили свои складки навесы. Братья Писток заносили в помещение лотки с фруктами, и кто-то наблюдал в дверной проем, как Эйб Либерман медленно идет к своему «бьюику» и садится в него. Либерман поправил зеркало заднего обзора, чтобы увидеть этого наблюдателя в дверях между «Игрушками со скидкой» и «Миром животных», но кто бы это ни был, он остался далеко позади, укрывшись за игорным салоном «Нинтендо» и грязным окном. И тот же человек раньше стоял у полицейского участка на Кларк-стрит, когда Либерман выходил оттуда.
Эйб включил дворники и выехал на улицу. Облака взрывались дождем, как воздушные шары, полные воды. Мужчина, стоявший в дверном проеме, побежал к стоявшей неподалеку машине. Либерман мог быстро повернуть налево и еще раз налево, в переулок рядом с парикмахерской, чтобы избавиться от «хвоста», но это не имело смысла. Человек знал, где Либерман работает и где живет. Это мог быть тот же мужчина, что четыре раза звонил Либерману по поводу «того, что произошло с ней вчера». Не исключались и другие варианты. Этот мог быть любой из десятков людей, которых Либерман упрятал в тюрьму или за которыми следил за четверть века.
Эйб включил радио и услышал сообщение Гарри Кэрея, что игра отложена из-за дождя.
Вместо того чтобы повернуть направо к дому, Либерман повернул налево и медленно поехал по переулку. Мужчина последовал за ним, держась на полквартала сзади. Дождь усилился. Либерман знал, куда едет. Он затормозил у пожарного крана грузовичком-пикапом и старым «дацуном». Эйб медленно вышел из машины, давая преследователю время найти место для парковки. Запирая машину, он не смотрел ни вправо, ни влево. Дождь омывал его теплыми потоками.
Промокнув насквозь, Либерман медленно подошел к проходу между двумя двенадцатиквартирными домами, спустился по лестнице в темноту и добрался до конца прохладного цементного коридора, где был вход в котельную. Шесть лет назад Эйб и Хэнраган арестовали здесь швейцара этого здания, пойманного с грудой стереоаппаратуры, которую он украл в близлежащих квартирах. Либерман вытащил отсыревший носовой платок, высморкался, достал пистолет и стал ждать, прислушиваясь к шуму дождя и раскатам грома. Он всегда любил дождь — тот как будто защищал его, дарил прощение. А улицу, напротив, не любил. Дождь давал ему оправдание, чтобы оставаться в помещении, под защитой ливня.
Шаги были быстрыми. Кто-то спустился по трем ступенькам и шел по цементному проходу. Либерман сделал шаг вперед, направив пистолет на темную мокрую фигуру, появившуюся перед ним.
— Стойте на месте, — сказал Эйб. — Руки за голову.
— Мне надо поговорить с вами, — произнес мужчина дрожащим голосом. — О том, что случилось между ней и мной. Я… Я это сделал.
Либерман убрал пистолет и шагнул ближе к говорившему.
— У меня не хватило смелости встретиться лицом к лицу с ней, с вами, — продолжал мужчина.
— На чьей машине ты приехал? — спросил Либерман.
— На арендованной. Моя в ремонте.
— У меня в багажнике есть сухой тренировочный костюм, — сказал Либерман своему зятю. — Давай выпьем где-нибудь кофе и обсохнем.
7
Хэнраган почувствовал себя лучше. Не то чтобы совсем хорошо, но все же лучше. Он сидел в машине перед рестораном «Черная луна» на Шеридан-роуд и смотрел, как дождь заливает ветровое стекло его автомобиля.
Исповедь перед Шустрым Паркером помогла. То, что он сейчас делал, должно было помочь еще больше. Хэнраган посмотрел на высотку. Ко входу подъехало такси, два человека, мужчина и женщина, нырнули под бетонный козырек «Мичиган тауэрс», швейцар поднялся им навстречу. Пара, смеясь, вошла через вращающуюся дверь. Хэнраган тоже издал смешок, даже не поняв почему.
Ресторан «Черная луна» уже открылся — приближалось время ужина. Посетителей еще не было, но Хэнраган видел Айрис. Он находился в зоне, где парковка запрещена, поэтому ничто не мешало ему остановиться прямо перед рестораном. Билл нервничал — ведь ему уже перевалило за пятьдесят и он успел стать дедушкой. Его первой мыслью было войти в ресторан и поговорить с Айрис. Теперь он решил сначала поработать. Когда между машинами наметился промежуток, он въехал на подъездную аллею, ведущую к «Мичиган тауэрс», припарковался как можно ближе ко входу и вбежал внутрь.
— Там нельзя оставлять машину, — сказал чернокожий швейцар, тот самый, что дежурил накануне.
— Полиция, — произнес Хэнраган, показывая жетон. — Видел вас прошлой ночью.
Билли Тартон кивнул.
— Мне больше нечего вам сказать, — проговорил он.
— Расскажите мне о женщине, которая села в такси перед тем, как я вбежал в дом.
— Я уже говорил другому полицейскому, — со вздохом ответил Тартон. — Я не очень-то хорошо ее рассмотрел. Шляпа у нее была надвинута на брови. Темные очки. Такси ее ждало. Водитель вышел вместе с ней, нес сумки. Она ни слова не сказала.
— Она белая или черная? — спросил Хэнраган.
— Белая, — ответил швейцар. — Возраст не назову, но нестарая. Скорее — молодая. Если что-нибудь еще вспомню, то позвоню, но вспоминать-то больше нечего. Ну совсем нечего. Так что зря вы приехали.
— Я приехал не для того, чтобы разговаривать с вами, — пояснил Хэнраган.
Молния расколола небо.
— Во Флориде такая погода летом почти каждый день, — заметил швейцар. — Я раньше жил в Лейкленде. Думаю туда вернуться.
Хэнраган показал на дверь. Билли Тартон нажал кнопку, и Хэнраган вошел. За ним, задыхаясь, через вращающуюся дверь вбежала промокшая насквозь женщина в спортивном костюме. Ее темные волосы прилипли ко лбу и щекам. Хэнраган направился к лифтам.
Он составил простой план: будет стучаться во все двери и спрашивать всех, с кем они еще не говорили и с кем уже говорили, что он, она или они знают об Эстральде Вальдес. Или о Жюле Ван Бибере. Или о падении Берлинской стены. Спрашивать до тех пор, пока не будет уверен, что больше никто не сможет ему сообщить что-то новое. Он будет спрашивать, потому что, несмотря на полученное после исповеди отпущение грехов, Билл Хэнраган считал себя виновным в смерти Эстральды Вальдес.
Расположившись на переднем сиденье машины, под звуки дождя, барабанившего по крыше, Либерман снял промокшие пиджак, рубашку и галстук, после чего надел синюю фуфайку с белой надписью: УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ ЧИКАГО. На заднем сиденье Тодд с трудом натягивал на себя серую фуфайку, которая была на полразмера меньше, чем ему надо.
— Хочешь бублик? — спросил Либерман.
— Я не могу есть, — ответил Тодд, протискивая руку в рукав.
— Тогда давай поговорим, пока я ем, — предложил Либерман.
— «Давно уже молчу я, оглушенная ударом этим. Слишком велика беда, чтобы промолвить слово иль задать вопрос»[30], — продекламировал Тодд, откинувшись на сиденье и проведя ладонями по мокрым волосам. Тодд был профессором Северо-Западного университета по сравнительной литературе, а точнее — по греческой трагедии.
— Это из?.. — поинтересовался Либерман, извлекая бублик из пакета, откуда вырвался крепкий мясной запах.
— Эсхил, «Персы», — сообщил Тодд.
— Уверен, что не хочешь бублик? Полбублика?
— Уверен.
— Лучше бублик съесть, чем на ежа сесть, — сказал Эйб. — Так говорил Паподополус. Тоже грек. У него была закусочная около депо, пока он не не укокошил свою подругу кухонным ножом. По правде, он говорил не «бублик», а «булочка», но я имею право на поэтическую вольность, верно?
Тодд молчал. Либерман изучал своего зятя в зеркало заднего вида. Тодду было тридцать пять лет, у него были светло-русые волосы и длинное узкое лицо. На вкус Эйба он был худоват.
— «Свои несчастья я нести согласен; к чему ж взамен простого горя мне нести двойное?»[31] — наконец отозвался Тодд.