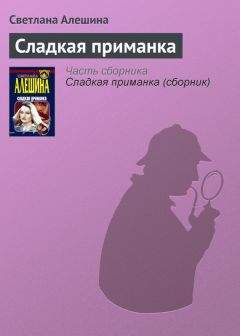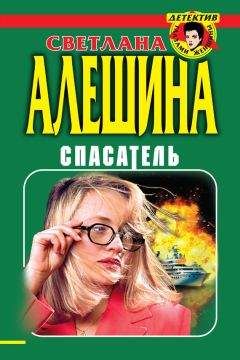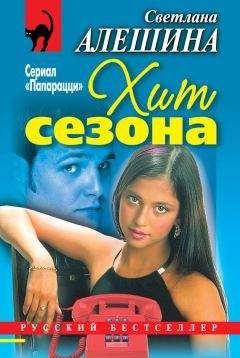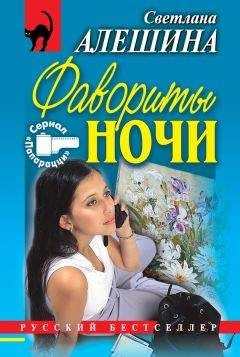Светлана Алешина - Сладкая приманка (сборник)
— Интересно, он и деньги у него таким же тоном просил? — подал голос Игорек.
— Не забывай, Игорь, что он все-таки больной человек, — напомнила я. — Причем психически больной. И болен он серьезно.
— Как ты узнала, где он живет? — уточнил Григорий Абрамович.
— Он писал обратный адрес на письмах к брату, — ответила я.
— Действительно, явный псих! — проворчал Игорек. — Мог бы попросить брата присылать ему деньги до востребования, чтобы адрес свой не светить.
— Помолчи, Игорь! — приказал Грэг.
Мы замолкли. Григорий Абрамович молчал вместе с нами, что-то напряженно обдумывая. О чем он думал? Может быть, о том, что ему теперь, слава богу, скорее всего не придется уходить на пенсию? Или о том, что мы утрем-таки нос этим пижонам из ФСБ, если, конечно, возьмем этого самого Машкова-старшего.
— Интересно, — сказал вдруг Григорий Абрамович, — есть у него сейчас готовые бомбы?
Мы с Игорьком не ответили. Откуда нам знать? А ему-то, Абрамычу, это зачем?
Григорий Абрамович словно услышал мой невысказанный вопрос.
— Очень не люблю ждать в больничном коридоре, когда людям из моей группы пришивают руки или ноги. А если голову оторвет? Назад не пришьешь.
Он посмотрел на меня и улыбнулся.
— Где еще я найду тогда такого психолога?
…Красный Плес оказался забытой богом деревушкой на левом берегу Волги, полностью погруженной во мрак, утонувшей в высоких зарослях какой-то травы, как выяснилось утром — крапивы. Было начало третьего ночи. Искать сейчас самостоятельно дом, в котором живет Александр Машков, не было никакой возможности.
Стоило бы, конечно, дождаться рассвета, до которого осталось часа полтора, не больше, но Григорий Абрамович спешил поскорее добраться до террориста. Он приказал Кавээну подъехать к одному из немногочисленных домов, осветить фарами окна, а сам пошел на переговоры с местным населением, если таковое обнаружится. Мы остались ждать результатов его дипломатических усилий.
Григорий Абрамович разговаривал минут десять, но зато вернулся с провожатым, который сам вызвался показать дом Машкова. Он оказался мужиком словоохотливым и трещал всю дорогу, несмотря на то, что его подняли из постели среди ночи.
— Машков дрянь-человек, — сообщил нам мужичонка, хотя мы его ни о чем подобном не спрашивали. — Я как рассуждаю? Ты, конечно, можешь сам не пить и других за это осуждать. Это сколько тебе угодно. Ну так мы тебя с собой и не зовем! И если заходим иногда, так не для того, а чтобы поговорить. О жизни нашей красноплесской. Ты человек новый, твое мнение нас интересует!
— А кто это «вы»? — спросил Григорий Абрамович. — Много «вас»?
— Мы — это обчество наше, красноплесское, — пояснил мужик. — Петр Степыч, Степан Трофимыч и я — Николай! А больше у нас мужиков нет. Баб, впрочем, тоже. Мужики ушли, а бабы разбежались за мужиками. Нас трое осталось, самое оптимальное число. Мы, мужики красноплесские, — население оседлое, а бабы, они кочевники. Вернее, кочевницы. Но это слово иностранное, а по-русски сказать — сучки они и б…! Кочуют из-под одного мужика под другого. Но это так, к слову, баб сейчас в Красном Плесе нет ни одной. Только мужиков трое. Машков четвертый, но он — дрянь-человек. Обзывается на нас. В дом не пускает, на пороге с топором стоит, а нас материт, чертыхает да бесами обзывает!
— Он ездит куда-нибудь? — спросил Игорек.
— Редко! — сделал скептическую гримасу Николай. — На почту только. Но в дом и без него не войдешь. Мы-то поначалу думаем — раз человек все дома да дома сидит, — наверное, он самогонку гонит! Дождались, когда он на почту, и к нему. А там кобелина во такой! Как выскочит из-под крыльца! У Петра подошву от ботинка сожрал, зверюга! Машков его Тензором [1]кличет.
— Машков купил здесь дом? — спросила я.
— Купи-ил? — переспросил мужик. — Да у него купилка не выросла еще. Тьфу на него, не хочу и разговаривать про него больше! Темный человек. Мутный и темный, как самогонка у Степан Трофимыча. Но та хоть за душу берет — резко и конкретно! А Машков что? Так, обычный говнюк, дрянь-человек.
«Рафик» ехал в темноте медленно, но отъехали мы от деревни уже порядочно, следуя указаниям ни на секунду не умолкавшего Николая.
— Направо здесь возьми, — говорил он, угадывая дорогу по каким-то ему одному известным приметам. — Вот же и тут, и тут вот дома же стояли, а теперь? А теперь пустырь, косогор, пепелище. Разбежалось село, как тараканов стайка. Осталось нас всего ничего. За последние десять лет всего один человек в Красном Плесе поселился, и тот — Машков. Пропало село. Где стол был яств, там гроб стоит! Пепелище!
— У вас пожар был, что ли? — спросил Игорек. — Сгорело село?
— Да куда ж оно сгорит-то? — удивился мужик. — Эт же поджигать надо специально, чтобы сгорело. Да еще и не сумеешь. Не-ет! Разъехались сами кто куда. Часть в Тарасов хорошей жизни искать, словно она здесь у них плохая была. Часть в райцентр подалась, в Крутое. Это поселок такой, Крутое называется. Там пивзавод построили, крупный. Рабочих много надо. Так наши прям с домами вместе и переехали туда. Крутыми стали, а мы, значит, красноплесцами остались. А кто здесь дом оставил, так растащили все, по досочке растащили.
— Кто ж растащил, — спросила я, — если, кроме вас троих, никого здесь не осталось?
— Так мы же и растащили! — удивился даже мужик. — Кто ж еще?
Он пристально вгляделся в начинающую сереть темноту и вдруг объявил:
— Здесь! Приехали.
Мы вышли из машины, но сколько ни озирались, ничего похожего на жилье разглядеть пока не могли. Наш проводник привел нас в широкое устье какой-то балки, поросшей травой и редкими кустами. Широкий ее конец выходил к Волге, и там было чуть светлее, а сужающийся тянулся вглубь обрывистого берега. Между поднимавшимися постепенно все выше стенками обрыва было по-прежнему темно.
Мы стояли на краю обрыва. Спускаться на машине нельзя было и думать — дорога была слишком крутая, а, кроме того, даже те несколько десятков метров, которые мы могли рассмотреть, походили больше на трассу для слалома, а не на дорогу. Машина тут запросто могла сделать кульбит.
— Дальше пешком, — скомандовал всем нам Григорий Абрамович. — Давай показывай, куда тут дальше идти, Николай.
Мужичок сплюнул и, пробормотав что-то о кобеле по имени Тензор, заковылял вниз. Странно, но, пока мы спускались, вокруг посветлело. Как-то сразу стало видно и Волгу с застывшей, неподвижной серой водой, и отвесную стену противоположного обрыва, сложенную из какой-то породы ярко-желтого цвета, и залитую густой мрачной зеленью ложбину между стенками обрыва.
Метрах в двухстах от берега, на пригорке, прямо посередине лощины, мы разглядели небольшой дом, пестротой своих некрашеных стен и облезлой крыши издали совершенно сливающийся с пестрым песчаником, из которого состоял пригорок. Вид у домишки был совершенно нежилой. Больше всего он был похож на заброшенный сарай, который когда-то стоял рядом с добротным жилым домом. Хозяева, должно быть, переехали, дом забрали с собой, а сарай остался на старом месте, поскольку хранился в нем один хлам.
Машина наша остановилась где-то посередине между Волгой и этим сараем. Грэг приказал Кавээну заблокировать двигатель. Было там у дяди Саши какое-то тайное противоугонное приспособление. Мы все двинулись вниз. Николай довел нас до единственного дерева, которое росло в ложбине, и заявил, что дальше он не пойдет, поскольку прошлый раз он едва успел добежать до этого дерева. Петька бежал сзади, так его этот самый Тензор (Николай ударение делал, конечно, на последнем слоге) успел за ботинок ухватить. Вы, мол, как хотите, дело ваше, но сам он дальше — ни шагу. Да тут, собственно, идти-то всего ничего осталось. Дорожка, конечно, попетляет еще самую малость, но она точно к дому Машкова ведет, не заблудитесь…
Николай сел под дерево и начал вставлять в черный мундштук окурок сигареты. Мы поняли, что дальше он действительно не пойдет.
Григорий Абрамович махнул на него рукой, и мы пошли дальше одни. На меня навалилось ощущение полной нереальности происходящего. Чуть больше часа назад мы еще сидели в своем управлении в центре большого современного города, а теперь вокруг нет даже признаков цивилизации, словно мы попали в какой-то вестерн. Я нисколько не удивилась бы, если бы из густой травы поднялись какие-нибудь апачи с томагавками в руках и начали бы плотоядно поглядывать на наши скальпы.
Пока мы спускались с обрыва, рассвело окончательно. Окружающая обстановка перестала быть призрачной и приобрела реальные черты, гораздо более близкие к российскому Нечерноземью, чем к американскому Дикому Западу. Не могу припомнить, что растет в американских прериях и на дне их знаменитых каньонов, но когда я увидела заросли огромных лопухов и крапивы, высота которой кое-где превышала человеческий рост, я поняла, что никакие апачи в этих зарослях не усидят. Как-то не могу представить себе индейцев, спрятавшихся в крапиве.