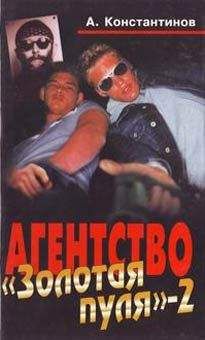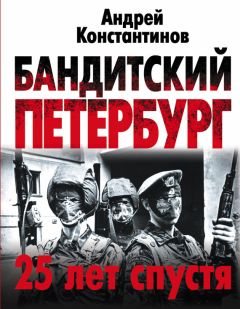Андрей Константинов - Полукровка. Эхо проклятия
Наконец, запах стал настолько силен, что уже перестал ощущаться, и она остановилась перед аккуратным двухэтажным домиком, у палисадника которого виднелась дружная парочка желтых «саабов». Эти забавные желтенькие автомобильчики почти касались друг друга округлыми боками и напомнили Самсут дыни. Ах, как любила бабушка Маро дыни, как ловко выбирала их повсюду, куда бы ни занесла ее судьба! И Самсут, воровато оглянувшись по сторонам, вдруг пристукнула кроссовкой о кроссовку и промурлыкала:
— На бахче ты возросла,
Как шамам, сама была,
День и ночь все про тебя
Моей песенки хвала!
Пропев эту давно забытую песенку, Самсут несколько приободрилась, и рука ее сама потянулась к дверному молоточку — точной копии предков дверного звонка позапрошлого века. Минута перед тем, как открылись двери, оказалась для Самсут самой страшной. За одну эту, показавшуюся ей едва ли не вечностью, минуту она успела передумать и перевспоминать все, что только можно, и вся ее идея с поездкой к отцу, не говоря уже о письме и наследстве, показалась вдруг до невозможности нелепой и глупой. Может быть, не откройся дверь еще немного, и Самсут как нашкодившая первоклассница убежала бы прочь от этой чистенькой аккуратной двери, но в следующее мгновение дверь открылась и явила в проеме высокую женщину солидного возраста.
Самсут мгновенно оценила ее спокойную и, несмотря на возраст, какую-то суровую северную красоту. Прислуга? Коллега? Жена? Женщина, не торопясь, как на базаре, рассматривала Самсут, и по лицу ее было видно, что она признала в незваной гостье иностранку.
Не дожидаясь лишних вопросов, Самсут сразу же обратилась к ней по-английски с давно заготовленной фразой:
— Мне нужен Матос Иванович Головин, — однако едва она произнесла это, как тут же поняла, что прозвучала эта простая, в сущности, фраза как-то глупо и непонятно. — То есть Матозиус Шёстрем, — быстро поправилась она.
Женщина равнодушно пропустила Самсут мимо себя и, ни слова не говоря, ушла куда-то в глубину дома.
Самсут огляделась, снова поймав себя на мысли, что делает это почему-то воровато и исподтишка. Полугостиная-полукухня, где она оказалась, сверкала чистотой, сверкала в самом прямом смысле слова: всюду блестели никель, железо, медь, полированное дерево, кафель, и даже тюльпаны в вазе отливали каким-то подозрительно неестественным глянцем. «Да уж, — подумала Самсут, — это не у нас на нашей кухне-живопырке, где не найдешь ничего, пока не перероешь половину утвари! Этак, конечно, лучше, по крайней мере, легче и…» Но додумать до конца Самсут помешали шаги, донесшиеся откуда-то сверху, и скрип сопротивляющейся их тяжести лестницы. Прошло столько лет, а она, как в детстве, вздрогнула, услышав их, эти отцовские шаги, тяжелые и порывистые одновременно. Пальцы ее впились в ремень сумки. Все, теперь уже отступать поздно…
Глава восьмая
Однажды двадцать лет спустя
Фигура Матоса показалась откуда-то из-под потолка, от начала лестницы, словно бы он был театральным божком, спускаемым на сцену на тросах и талях. Самсут вся подалась вперед, одновременно страшась и желая увидеть этого нового, хотя, вернее будет сказать, чужого, но при этом такого родного для неё человека. Навстречу ей, вниз по лестнице спускался ОТЕЦ! Все тот же кудрявый, крупный, некогда жизнерадостный («интересно, а как сейчас?») человек, у которого за все эти годы, на первый взгляд, разве что только прибавилось в кудрях седины, а в районе талии — сантиметров.
Однако, встретившись взглядом с Самсут, отец отчего-то не улыбнулся, а посмотрел на гостью скорее настороженно.
— Чем могу… — начал было он, потом вдруг осёкся, всмотрелся пристальнее, и… Но в этот момент уже сама Самсут не смогла более выдерживать этой театральной паузы и порывисто шагнула вперед.
— Папа!..
— Самсут?!!
— Папа! — чувствуя, как слезы, сколь ни пыталась она их сдержать, прорвав комок-плотину, хлынули из глаз, Самсут бросилась навстречу отцу и повисла у него на шее. В ответ Матос крепко обнял ее, зарывшись лицом в копне ее волос. Те мгновенно сделались влажными, и Самсут догадалась, что отец тоже плачет.
— Jiha?[6] — раздалось за спиной резкое, словно каркающее. Самсут и отец вынужденно разомкнули объятия и обернулись на голос. Позади них, как тень, снова стояла та самая высокая женщина.
— Jiha?! — уже более настойчиво повторила она.
— Это моя дочь! Она все-таки нашла меня! — смешно шмыгая носом, пояснил Матос и, посмотрев на Самсут с выражением нашкодившего ребенка, извинительно пожал плечами в сторону «третьего лишнего». В следующий момент, видимо сообразив, что столь краткого объяснения, да еще и на русском языке, в этой ситуации явно недостаточно, он бойко затараторил что-то на шведском. Когда Матос закончил свой достаточно длинный монолог, женщина в ответ лишь фыркнула и, не проронив более ни слова, гордо удалилась наверх. К явному облегчению обоих, блудного отца и его дочери.
— Самсут! — с неожиданной для дочери нежностью отец погладил ее по щеке. — Откуда ты? Как ты здесь? — как-то совсем уж по-детски растерянно спросил он.
И Самсут, в эти несколько мгновений отчего-то вдруг почувствовав себя неизмеримо старше отца, как взрослая, устало улыбаясь, кивнула в сторону стола.
— Присядем, папа? Я за сегодня уже столько находилась — ноги не держат.
— Да-да, конечно, как это я сам не догадался, — засуетился отец. Он бережно взял Самсут за руку, подвел к столу, выдвинул пару стульев, и они уселись друг напротив друга.
— Я здесь проездом, папа. У меня совсем немного времени, но мне очень нужно было с тобой поговорить. И просто увидеть… Ну, рассказывай, как ты тут? У тебя все в порядке?
— Да что я… Все как-то так… Да ты и сама видишь…
— Вижу. Шикарный дом, машины…
— Брось, это по нашим, российским меркам шикарно. А для Швеции всего лишь обязательный джентльменский набор. Без которого с тобой просто никто не будет считаться и знаться… К тому же все это в кредит, рассчитываться за который, по самым скромным подсчетам, нужно еще лет десять, минимум… Так что приходится крутиться. Помнишь, когда ты была совсем маленькой, я читал тебе перед сном книжку, про Бемби?
— Конечно, помню, — улыбнулась Самсут.
Еще бы она не помнила! Ведь такие вечерние чтения-посиделки с отцом, по причине своей исключительной редкости, навсегда остались в ее памяти смутным светлым ощущением настоящего праздника.
— Там был такой забавный персонаж — водяная курочка, — грустно улыбаясь, продолжал вспоминать Матос. — И говорила она оленёнку примерно следующее: «Если хочешь долго жить и быть всегда сытым — нужно двигаться!» Вот я и двигаюсь, по мере сил. Правда, силы нынче уже не те.
— Перестань кокетничать, папа, выглядишь ты просто отлично. — Самсут успокаивающе взяла его за руку, но глаза при этом чуть отвела в сторону, так как на самом деле в этой ее фразе присутствовал элемент лукавства. Отец действительно заметно сдал: ссутулившаяся некогда мощная спина, мешки под глазами, глубокие морщины и обильная седина в как всегда безукоризненной причёске.
— Спасибо, дочь. Но если кто и выглядит отлично, так это ты. Самсут, ты такая стала…
— Какая?
— Настоящая красавица… Вылитая бабушка Маро в молодости. Просто копия!.. Да что я всё… У тебя же мало времени, а ведь ты о чем-то хотела поговорить. Вот только… Ты, часом, не голодна? Может, я на скорую руку чего-нибудь такого…
— Нет, папа, спасибо. Я не голодна, да и времени у меня действительно мало.
— Но хотя бы кофе? — чуть ли не взмолился Матос.
— Хорошо, кофе буду.
— Отлично! — Отец резко вскочил из-за стола и метнулся к плите. — Буквально пару минут, не больше… Знаешь, я только здесь, в Швеции, впервые узнал, что, оказывается, в процессе приготовления кофе всё дело в пропорции! Соль и сахар, а получается, будто шоколад… — Матос суетился у сверкающей плиты, доставая из подвешенных над ней аккуратных шкафчиков всякие чашечки, ложечки, коробочки и пакетики. — Слушай, а может, для аромату добавить немного коньячку? За встречу и всё такое? Ты ведь у меня уже совсем взрослая девочка?.. Правда, коньяк французский, настоящего армянского здесь не достать.
— Хорошо, если немножечко, то можно, — улыбнулась Самсут, стоя за его спиной и с неподдельным интересом наблюдая за тем, как ловко и забавно ее отец шаманит над туркой.
* * *Наконец, они снова уселись за стол, шутливо чокнулись глиняными кофейными кружками. («Не понимаю я их европейской дозы, — словно оправдываясь, пояснил отец. — Накапают какой-нибудь бурды, типа „эспрессо“, в наперсток и, сидят, цедят по часу. А хорошего кофе должно быть много!») Какое-то время пили молча, каждый думая о чем-то своем, потаенном.