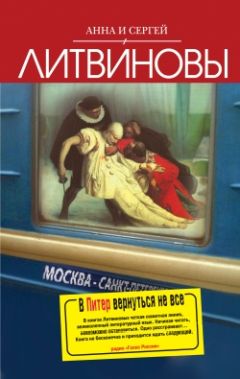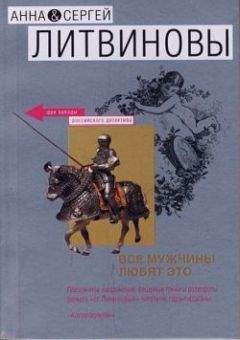Анна и Сергей Литвиновы - В Питер вернутся не все
Все — и Царева, и Марьяна, и Кряжин, и проводница Наташа — говорили в принципе одно и то же. Не видели, мол, не слышали ничего. Спал (спала), сидела в своем купе. Старообрядцева по поводу убийства Волочковской и допрашивать не стоило. Все время после того, как будущая жертва покинула тамбур, он находился на виду у Димы. Елисея Ковтуна так и не нашли.
Словом, время, проведенное в засаде на верхней полке, Полуянов счел зряшно потерянным. Во всяком случае, для расследования преступлений оно не дало ничего — разве что для понимания психологии подозреваемых. Гости, приходившие в купе, Диму даже и не замечали — только в первый момент, на входе, могли обратить внимание, что наверху кто-то (или что-то) лежит. Однако их взгляды тут же приковывал хорошенький юный милиционерик в форме, сидевший на откидной скамье у стола. И практически сразу лейтенант усаживал очередного киношника на нижнюю полку и начинал опрашивать. Было любопытно, как люди вели себя, оказавшись наедине (как они думали) с представителем закона. Царева держалась уважительно-величественно, Никола Кряжин — слегка развязно, Старообрядцев — спокойно и отчасти подобострастно. Голос Марьяны звучал естественно, однако она не производила впечатления особенно умной персоны, а свое тайное оружие — безудержное, бьющее наповал кокетство — не применяла. Проводница Наташа суетилась, плохо слушала вопросы и отвечала невпопад.
В итоге, когда лейтенант закончил свои беседы и отправился восвояси, журналист вздохнул с облегчением. Изнутри его жгло чувство, что время неумолимо уходит, а он ничего не успевает. Поезд то бодро молотил колесами, то слегка притормаживал, но с каждой минутой, с каждой секундой приближался к Москве. А там уж расследование возьмут в свои руки другие… Первый раз в жизни фортуна дала Диме шанс проявить себя не как журналисту, а в роли сыщика по уголовному делу. Однако он миссию, подаренную ему судьбой, похоже, блистательно проваливал. И времени, чтобы что-то обнаружить, выявить, доказать, у Полуянова оставалось все меньше. И он очень хорошо ощущал, как минуты утекают. Неприятное это чувство жгло его изнутри, язвило.
Однако, несмотря на очевидный цейтнот, Дима все равно отправился в тамбур покурить. Во-первых — просто хотелось (пора вообще-то бросать дурацкую привычку к никотину: мало того, что здоровье гробит, еще и сколько времени драгоценного тратится!). Но, главное, он просто не знал, что ему делать дальше. Чтобы хоть отчасти оправдать свою слабость, журналист захватил с собой блокнот: может, за сигаретой удастся систематизировать впечатления нынешней ночи.
Но доставать блокнот не пришлось. Едва он зашел в тамбур, сразу почуял неладное — отчетливо пахло горелым. Нет, несло не папиросным дымом и не сожженными спичками (если кому-то в вагоне люкс вздумалось вдруг прикуривать не от зажигалки, а от спички). Меж вагонами воняло иной гарью. Запах напомнил ему, как пахнет костер (время от времени Полуянов разводил его на задах своей дачки), если жжешь в нем старые рукописи. Да, ощутимо несло сгоревшей бумагой. Но кому понадобилось сжигать в тамбуре скорого поезда рукописи? В вагоне, где только что произошло два убийства?
Диме сразу показалось, что запах связан с преступлениями (может, и зря). «Не осталось ли от сожженного каких следов?» — спросил он себя. Однако исследование пепельницы ничего не могло дать: она, представляла собой не железный ящичек, притороченный к стене (как в старых поездах), а, по новому вагонному фасону, являлась просто щелью в железной стенке вагона. И внутрь ее не залезть. Можно, конечно, отправиться за помощью к проводнице — у той наверняка имелся ключ, чтобы резервуар с бычками опорожнять. Но кто знает, может, железнодорожница (несмотря на все ее благостные рассказы) и есть убийца?
На всякий случай Дима тщательно осмотрел пол тамбура. Ничего, кроме сигаретного пепла, особенно сгущавшегося близ пепельницы-щели, да пары окурков, которые кто-то из нерях швырнул себе прямо под ноги, не обнаружил.
Дверь, ведущая к сцепке, опять была не заперта. Полуянов распахнул ее, стал внимательно обозревать межвагонное пространство, подсвечивая себе фонариком на телефоне. Внутри все клацало, грохотало, моталось. В щелях видна была стремительно уносящаяся земля, гравий и шпалы, сливающиеся в сплошную серую полосу. И тут Диму ждала удача.
На сцепке белело крохотное пятнышко. Какой-то плоский предмет пристал к грязной железяке. С великой осторожностью журналист, болтаемый во всех плоскостях, нагнулся к нему, присмотрелся.
То был край сгоревшей фотографии. Крохотный. По размерам не больше почтовой марки. Журналист, стараясь, не дай бог, не уронить находку на пути и не оставить своих отпечатков, подхватил фото двумя пальцами за края и поднял.
Вернулся в тамбур, вгляделся в крошечный уцелевший фрагмент. Видимо, то была нижняя центральная часть карточки. Потому что с одной стороны крючок был ограничен ровным белым краем, а с противоположной — зигзагообразной пригоревшей линией, и на обрывке удалось рассмотреть лишь мужские ноги в серых, хорошо выглаженных брюках. И на заднем плане, — кусок пейзажа: часть дерева или куста. Серые брюки, зеленый куст — вот и все. Вся информация.
Дима перевернул обрывок. Оборотная сторона оказалась девственно-белой. Ни подписей, ни пометок.
Фотобумага выглядит довольно старой. Но и оказаться слишком уж древней карточка не может. По одной простой причине: она — цветная. «Когда у нас в России появились первые «мыльницы» и киоски «кодак», а искусство фотографии начало постепенно становиться массовым? Году в девяносто третьем, девяносто четвертом, не раньше… — припомнил журналист. — Впрочем, если карточка принадлежала, допустим, режиссеру или кому-то другому из числа богемы — может, она более ранняя. Сделана где-нибудь за границей…»
Полуянов достал блокнот и аккуратнейшим образом положил обрывок фотографии между страниц. Несмотря на то, что вряд ли на нем кому-то когда-то удастся разглядеть нечто более информативное, нежели тщательно отутюженные брюки, сердце его забилось чаще. Дима не сомневался: обрывок карточки имеет отношение к убийству. И, возможно, именно убийца спешно сжигал фотографию.
Понять бы теперь — почему? Что такого криминального могло быть изображено на старой карточке?
Только теперь журналист, с чувством довольства от неожиданно привалившей удачи, закурил.
Флешбэк-3. Николай (Никола) Кряжин
«Жизнь — как зебра. Черная полоса, белая, черная, белая… Черная, белая… А потом — ж…а».
Так один мой герой говаривал. Мощный мужик, умный. В сериале. Лет десять назад. Я уж и забыл, как его звали. Да и непонятно, хороший он был или плохой. Или, как режиссеры и кинокритики выражаются, положительный или отрицательный. Какой-то он был… как это они любят говорить… Не, не полоцательный… И не отрижительный… Другое слово, на амебу похоже… Во, ам-би-валент-ный… Короче, бандитом я был — но добрым. Девушку спас. Бедным денег давал. Старушке дров наколол. В общем, как героя звали, забылось, а фразочка в мозгах осталась. Тем более что тот персонаж вообще говорил мало. В половине эпизодов занят, а текста в сценарии было учить с гулькин хрен — три страницы. Он в основном там зверское лицо делал. Или, пореже, умилительное. И пару раз — страдающее. (Демонстрирует, довольно смешно, физиономии.)
Мне, вообще, со временем повезло. (Вот она, белая полоса!) Или повезло с собственной фактурой. Короче, фактура моя очень хорошо с нашим временем совпала. Наложилась на него. Оказалась, как говорил наш мастер, востребованной моя психо-физио-логия. А проще говоря — рожа. (Смеется.)
Ведь роли, после того, как я немногословного Робин Гуда сыграл, пошли косяком: то бандиты, то менты. Причем бандюганы, в основном, не чистые злодеи, а такие… с добрыми струями… И менты тоже — с этой… с харизмой и конкретные. Не как в кино «Петровка, 38» были, а такие, что и попрессовать подозреваемого могут, и начальнику в глаз засветить, и улики невиновному подбросить.
Я уж сам иногда путался, кого играю сейчас — мента или бандита. А может, мента, который вот-вот бандитом станет? Или я — авторитет, который на самом деле чекист под прикрытием?.. Да они, по-моему, и в жизни сами не всегда понимают, кто они есть на самом деле… (Смеется.)
Короче, стал я, если честно, даже бояться: заштампуюсь. Будут мне режиссеры-продюсеры теперь до конца жизни одних крутых давать играть. Мне и мастер мой — умнейший был человек, и добрейший, и бескорыстнейший — мир праху его, пусть земля ему будет пухом — в ту пору так сказал, (размашисто крестится). Мы тогда с ним как раз в ресторане мосфильмовском столкнулись, он на «Мосфильме» чего-то тоже халтурил, мультик, что ли, озвучивал. «Смотри, — грит, — Никола! Берегись! Одно и то ж играешь! И главная беда не то, что заштампуешься, а что у тебя не сорок три штампа получится, как у великого Гриценко, а три! Молод ты еще: одно и то же из года в год играть!»