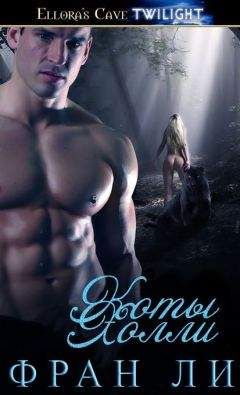Фил Уитейкер - Портрет убийцы
На протяжении лет периодически вытаскивались на свет знакомые фотографии детства — главным образом чтобы позабавить очередного приятеля. У папы никогда не было киноаппарата. И он никогда не говорил мне, что записал на пленку мои первые слова. Почерк на кассетах был, безусловно, его, но я так и не узнаю, кто делал записи — он или мама. Возможно, он засунул их в этот поддельный альбом много лет назад и забыл, что они там лежат. А возможно, всегда помнил и намеревался в покое пенсионного возраста оживить свою маленькую дочурку. Я сидела в его гостиной и слушала пленку со своим голосом, когда я была в возрасте Холли. Эта мысль невыносимо давила на меня.
Эти пленки напоминали мне — жестоко и безоговорочно, — что голоса папы я уже не услышу. Больше никогда. У меня не было записей — ничего, что оживило бы в памяти тембр и модуляции его размытого выговора обитателя Дербишира и его бесстрастную манеру говорить. Даже всего через несколько месяцев после его смерти я не могу восстановить это в памяти. Картины всплывают в мозгу — не перед глазами, а как-то иначе, — но я не могу восстановить звуки. Когда Холли было полтора месяца, Пол купил видеокамеру. Я вспомнила, сколько мы всего отсняли — фильм, вобравший в себя целый год ее жизни. Я была абсолютно уверена в том, что мы никогда не крутили его при папе. Много снимков, как она играет, как я держу на руках ее спящую, как она впервые садится без посторонней помощи, как безудержно хихикает, когда Пол щекочет ее с помощью Мишки, с каким восторгом брызгается в ванне. И ни одного снимка с папой. Холодная ярость обуяла меня. Ничего не осталось — ни для меня, ни для Холли. Фотографии — да, но ни одного снимка в движении, снимка ее дедушки, ничего, где звучал бы его голос. Я пыталась понять, как это могло получиться. Все это время — Холли ведь было десять месяцев, когда он умер. Помню, раза два, приходя с ней к папе, я приносила с собой аппарат для видеосъемки. Но она была слишком капризна, и подолгу выпускать ее из рук было нельзя. Я так и не вынула камеры из футляра. Не придала тогда этому значения. Еще будет время — когда Холли попривыкнет к деду, будет рада сидеть у него на колене или же когда с нами будет Пол, который все и заснимет, и я смогу уже не думать о том, что надо выпустить из рук девочку.
Пленка продолжала крутиться. Мне вдруг стало невыносимо слушать мой детский лепет. Я подошла к стерео и вырубила звук посредине. И вынула кассету, намереваясь отнести ее назад, в папин кабинет. В коридоре на глаза мне попался телефон со стоящим рядом автоответчиком. Я никогда не обращала на него внимания. Он был выключен — так и стоял выключенным со дня папиной смерти. Я включила его и нажала на кнопку сообщений. Раздался щелчок, короткое жужжание и его голос: «Вы позвонили Рэю Артуру, я не могу сейчас с вами разговаривать, — оставьте сообщение, и я перезвоню вам, когда смогу. Спасибо». Длинный гудок, и кассета перемоталась. Я прокрутила ее снова и снова. Затем открыла крышечку и вынула пленку. На моей ладони лежало пятнадцать секунд записи — он сам, его голос был теперь со мной на все времена.
Дома у нас автоответчик является неотъемлемой частью аппарата. И только принеся с работы диктофон, я смогла снова услышать папин голос. Я занялась этим вечером, когда Пол отправился играть в футбол. Как только Холли заснула, я прошла в гостиную и подключила нашу стереоаудиосистему. Взяла стандартную пленку, поставила на «запись» и включила микрокассету. Голос папы зазвучал из громкоговорителей — все те же слова, ничего другого он больше уже не скажет. На этот раз гудка в конце не последовало — должно быть, он исходил из телефонного аппарата папы. Я проиграла несколько раз пленку. Внезапно раздался щелчок и электронное чириканье, затем зазвучал мой голос, звонкий, веселый. «Пап, послушай, насчет воскресенья — боюсь, мы не сумеем приехать. Это день рождения мамы Пола, и мы должны быть там в этот уик-энд. Пол говорил мне, но я забыла. Мне, право, жаль. Позвоню тебе завтра. Надеюсь, ты в порядке. При-и-вет».
Это застигло меня врасплох. Комната заходила ходуном. Снова щелчок, снова чириканье. Я быстро сообразила: я поставила ту часть пленки, на которой записаны сообщения. И прежде чем я сумела толком все осознать, раздался другой голос. Женский, без имени, спрашивавший папу, сможет ли он в пятницу выйти в дополнительную смену. Щелчок, чириканье. Звук поднятой телефонной трубки. Щелчок, чириканье. Мужской голос, издалека, словно бестелесный: «Рэй? Да, это Диклен. Слушай, позвони мне, хорошо?»
Я прохожу мимо агентства по продаже недвижимости, где мы с Полом мечтали об иной жизни всего несколько часов назад. Я снова останавливаюсь, перебирая в памяти виденные дома. Больше всего мне нравится фермерский дом. Это красивое строение в дикой глуши, в четырех милях от Бингема. В обе стороны тянутся поля. Я не хочу сюда переезжать, как не хочет и Пол — нам тут нечего делать. А вот куда-нибудь ближе к друзьям, к работе — это возможно. Четыре спальни, пол-акра земли, есть где побегать и поиграть, уехать из Лондона с его слабыми школами, и прогулами, и площадками для игр, и бандами в галереях. Холли три дня в неделю ходит в детский сад, так что я могу вносить свой вклад в уход за ней, учитывая, что Пол вкалывает по двенадцать часов в день. Садик у нее неплохой — лучше других, которые я смотрела, где детишки с пустым взглядом неуверенно жмутся к стенкам. По крайней мере она ходит в такое место, где дети веселятся, играют. Ей там нравится. Она плачет каждое утро, когда я оставляю ее, очень горюет. Ей не понравится расти в деревне, без подружек. Мне бы тоже не понравилось. Пол любит Фарнем. Может быть, там мы и устроимся. Правда, приличное место в Суррее стоит немало.
Все это только разговоры о том, чтобы продать дом и уехать. Мы привязаны к Лондону, обольщены им, околдованы. Нам никогда не уехать оттуда, особенно теперь, когда у нас есть Холли и столько связанных с ее существованием желаний. Папино завещание изменило ситуацию, но породило столько же новых проблем, сколько могло разрешить. Несколько лет назад он дал мне копию, которую из суеверия я так и продержала в конверте. Через два-три дня после смерти папы я вынула ее. Пол при этом присутствовал. Все было оставлено мне.
Только оказалось не так. У солиситора было другое завещание, составленное тем летом, — я о нем ничего не знала. В нем по-прежнему мне была завещана сумма в десять тысяч фунтов, а остальные деньги положены на имя Холли под управлением опекунов. Единственным опекуном была указана я.
Повернувшись спиной к витрине агентства по продаже недвижимости, я продолжаю идти по Срединному Лазу. Сара говорит — не надо принимать поспешных решений. При том ударе, каким явилась для меня смерть папы, при оскорбительном расследовании, препирательствах с юристами, отсутствии времени и места для горя меньше всего мне следует думать о переезде. Сара знает меня с первого дня занятий в университете. Она говорит, что время внесет изменения в мои чувства или по крайней мере я смогу яснее во всем разбираться. Но пока я не вижу и признака чего-либо подобного. Пол напирает, говорит, что, приобретя дом, мы использовали бы деньги с пользой для Холли. Надо смотреть вперед, а не назад — это его девиз. Он прав — я это понимаю, однако не могу слышать, когда он такое говорит.
Срединный Лаз приводит меня к перекрестку. Табличка для туристов сообщает, что это — Переход в Рабочие Дни. Я читаю написанную там историю этого места, но не впитываю ее в себя. Немного дальше — реклама. Я бросаю взгляд на плакат под удароустойчивым стеклом. Восемь детских фотографий, размещенных в два ряда по четыре в каждом. И надпись: «Неужели жизнь этих детей не стоит двухминутной остановки в ваших странствиях?» Восемь детей — их фамилии и возраст напечатаны под фотографиями, словно это детские рисунки: Кристофер, 9; Наоми, 6; Санджей, 4; Николас, 5; Джейми, 5; Кейти, 4; Даррен, 8; Джим, 9. Что-то ударяет меня, грозит подкосить. Фотографии, снятые дома, в школе, одна сделана в киоске, на паспорт. Копны кудряшек, отсутствующие передние зубы, аккуратные синие галстучки, родимое пятно цвета портвейна, мягко сфокусированный взгляд. Лица ухмыляются, широко улыбаются, блестят глаза. Девочка Кейти так и сияет. Но грудь ее приподнята в задержанном вдохе, она смотрит на кого-то сбоку, в глазах вопрос: «Я выгляжу как надо?» Она такая взрослая и однако же такая маленькая. А у Джима взгляд опущен. Губы кривятся в полуулыбке. Неужели за его девять лет ему не могли сделать лучшую фотографию? Я невольно подумала о Холли, — если бы нам пришлось давать ее фотографию. Мы снимаем ее, лишь когда она потрясающе выглядит и ведет себя действительно мило. А те, которые получаются не как надо, мы прячем. Я вставляю их в альбомы, Пол листает их, когда приходит домой, мы сидим, держась за руки, и уже возвращаемся вспять в воспоминаниях. Если Холли расстраивается во время съемки, Пол перематывает пленку — ее слезы будут удалены. На всех, до малейшего, свидетельствах вы видите лишь счастливейшую из девочек, малышку, которая никогда не плачет. Я иду дальше, оставляя позади Джима, Кейти и других погибших детей. Звоню Полу по мобильному, но отвечает автоответчик. Я оставляю сообщение, не переставая идти, прошу позвонить мне, как только он это услышит. Закончив сообщение, я вынуждена остановиться, чтобы перевести дух. Они в порядке, и Холли в порядке. В этот момент они плескаются в бассейне, Холли смеется, когда Пол движется назад и тащит ее за собой, следя за тем, чтобы ее лицо не погрузилось в воду. А телефон, если он вообще звонил, находится в шкафчике в раздевалке, в глубине отеля.