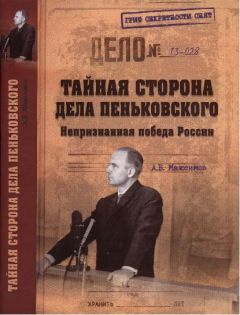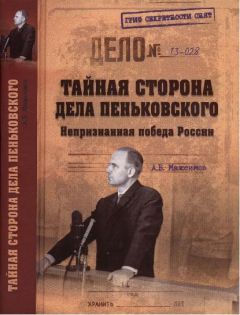Гревил Винн - Человек из Москвы
- Жанна тоже будет на нашей вечеринке, - объявил он. - Мы договорились встретиться на "Вилла д'Эсте".
Выйдя из универмага, я сказал, что это плохо, когда на вечеринке присутствуют три девушки и только двое мужчин. Алекс беззаботно ответил: "Ну так пригласи третьего мужчину! Только не забудь предупредить его о нашем "фильме". Он, кстати, может сыграть роль продюсера".
Перед тем как разойтись по нашим гостиницам, я сказал, что заеду за ним в девять часов вечера. Я принял ванну, оделся во все свежее и начал поиски третьего мужчины. Разумеется, мы не могли пригласить на вечеринку кого угодно - надо было найти кого-нибудь из своих. Однако двое самых компанейских были заняты. Третий - он бы подошел как нельзя лучше - улетел в Англию, и еще несколько заявили, что не любят свиданий "вслепую". В конце концов мне удалось уговорить Блэки (имя вымышленное), заверив его, что наша компания очень тихая, поскольку человек он был весьма сдержанный. У Блэки был феноменальный послужной список: во время войны он организовывал эвакуацию с Балкан, да и сейчас оставался первоклассным агентом. Если у него и были слабости, то, во всяком случае, не вино и не женщины.
Я пригласил Блэки на "Вилла д'Эсте" к половине десятого, когда все мы уже будем сидеть за столом и путь к отступлению окажется для него отрезанным.
В девять часов я заехал за Алексом и Соней, и мы направились в ресторан, где нас уже ждали Жанна и Тони.
Мы сели за стол. В двадцать девять минут десятого я вышел в вестибюль, где и обнаружил Блэки, который посматривал на свои часы. Я вкратце объяснил ему, что он теперь кинопродюсер. Блэки встревожился:
- Постойте-ка, Гревил, что все это означает? Что я, по-вашему, должен говорить?
- Говорите о чем-нибудь большом и красивом, - посоветовал я, ведя его к нашему столу. - Вы - кинобосс. У вас несметное состояние, и вы всем диктуете свою волю!
Никогда еще более несговорчивый продюсер не садился за столик веселой компании. Однако, несмотря на свою неопытность в кинематографических делах, Блэки был хорошим разведчиком: после второго бокала шампанского он так вошел в роль и изложил такие грандиозные планы съемок фильма о Великой французской революции, что Тони и Жанна, навострившие уши при упоминании об огромных суммах, перенесли свое внимание с Алекса на Блэки. Наши три девушки составляли замечательное трио: рыжая, блондинка и брюнетка. Тони была профессиональной компанейской девушкой, сообразительной и готовой смеяться по любому поводу. Жанна словно сошла со страниц фотокалендаря для солидных бизнесменов, а скромница Соня многому успела научиться за время, проведенное в Париже. Ужин прошел великолепно: основным блюдом был фазан по-суворовски; мы танцевали и смотрели эстрадное представление.
Алекс становился все более и более возбужденным: ему хотелось, чтобы эта вечеринка была особенной - больше, чем просто вечеринка, - чтобы шум, музыка и смех ни на минуту не утихали. Он все время произносил тосты, рассказывал анекдоты и всячески хвастался своими "ролями" в кино. Для него было большим счастьем хоть на время забыть о своем "отечестве". К счастью, Тони и Жанна, как и все остальные из присутствующих, имели самое смутное представление о югославском кинематографе.
К часу ночи мы достаточно натанцевались и решили вернуться в гостиницу. Алекс нес две большие картонные коробки: в одной было вино; содержимое другой он пока держал от нас в секрете. Когда мы зашли в наши апартаменты, Алекс достал из первой коробки шампанское, а из второй - шоколад и духи для девушек, а также огромный флакон "Же ревьен". Блэки спросил, уж не для него ли это предназначено. Алекс рассмеялся и сказал: "Нет, это для всех!" - и, прежде чем его успели остановить, вынул пробку и принялся поливать духами ковер - пока в комнате не стало пахнуть, как в гареме.
Мы выключили люстру и включили радио: еще немного выпили, потанцевали и пофлиртовали. Блэки выпил бокал шампанского, стоя на голове. Соня с Алексом темпераментно сплясали казацкий танец. Все повторяли, что вечеринка удалась на славу. Однако Алексу как будто все было мало, хотя мы и старались как могли. Девушки были веселые, Блэки продемонстрировал почти все свои блестящие способности, но к четырем часам утра нам смертельно захотелось спать. Вся наша компания вышла на улицу. Было холодно. Мы нежно пожелали друг другу спокойной ночи и разъехались на такси по своим гостиницам.
На следующее утро я повез Алекса в аэропорт Орли.
На полпути мы въехали в полосу тумана и начали опасаться, что не успеем вовремя. Но туман был и в аэропорту, так что нам пришлось ждать вылета четыре часа. Это ожидание было как самая изысканная пытка. Нас охватили сомнения. Туман казался каким-то дурным предзнаменованием для Алекса: будто предупреждение свыше о том, что ему следует остаться. В здании аэропорта было мало людей. Мы прошлись взад-вперед, выпили кофе с коньяком, поговорили о том, как славно провели время в Париже, как недолго еще ждать новой встречи и т.д. Мы отлично знали, что занимаемся самообманом, ибо впереди долгая зима и совершенно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах мы снова сможем встретиться.
Наконец объявили посадку на самолет. Перед таможней Алекс вдруг остановился, и я подумал, что он сейчас повернет назад, предпочтя Париж и безопасность. Он опустил чемоданы и стоял, не говоря ни слова. Я с надеждой ждал...
Внезапно он повернулся ко мне, крепко пожал мне руку и, беря чемоданы, сказал: "Нет, Гревил, у меня еще есть работа!"
Я смотрел, как взлетает его самолет. Туман рассеялся еще не полностью; небо было темное и мрачное. Едва оторвавшись от земли, самолет исчез из моего поля зрения.
Освобождение
Стоя у подножия трапа, Алекс машет мне рукой. Он пришел проводить меня на аэродром с риском для своей жизни. Почему воздух в самолете такой холодный? Он наполняет мне легкие. Где Алекс? Наверное, ушел. Где я нахожусь? Это не самолет. Кругом темно, я ничего не вижу.
Я ничего не вижу, потому что у меня закрыты глаза.
Надо поднять веки: я лежу на койке во Владимирской тюрьме. Женщина-врач кладет на тележку кислородную маску и склоняется надо мной. В руку мне вонзается игла.
Значит, они не хотят, чтобы я умер! Такова моя первая мысль. Вывод очевиден: что бы они ни делали, что бы со мной ни происходило, мое положение в корне отличается от положения других заключенных. Мне приносят еду - даже дают мясные кубики. И еще несколько таблеток из тех витаминов, которые прислала Шейла. Меня держат в постели и каждый день делают уколы. Качество пищи улучшается: в моем рационе появляется мясо. Конечно, это не то, что называют мясом на Западе, но все-таки.
Я также получаю молоко и белый хлеб. Наконец, мне дают книги и английские журналы (с вырезанной фоторекламой - чтобы тюремщики не видели, как загнивают на Западе) плюс бумагу и карандаш, чтобы я мог написать домой.
Но самое главное - мне не дают умереть. Я по-прежнему все еще кожа да кости и изможден до такой степени, что, когда меня после недельного пребывания в кровати хотят вывести на прогулку, я едва не теряю сознание, встав на ноги. Но я жив - и мне дадут жить. Крошечный огонек, который еще теплится во мне, не задуют.
Словом, я более или менее доволен своим нынешним положением, как вдруг у меня появляется сокамерник: худосочный, отталкивающего вида русский юноша. Вероятно, опять подсадной. Имя у него трудное, поэтому я называю его Макс. Он не нравится мне с первого же взгляда. У него близко поставленные глаза и скулящий голос.
Мысль о том, что нам придется пользоваться одной парашей, вызывает у меня отвращение. Я жалуюсь надзирателю, но тот советует подать заявление Шевченко. Заявление я подаю, но ничего не происходит. Тогда я решаю избавиться от Макса сам. Лучший способ - затеять драку.
Впрочем, драка - это громко сказано, потому что Макс едва ли в лучшей форме, чем я. Правда, всегда можно споткнуться и разбить себе голову о стену, но, уверен: как бы они ни относились к Максу, они предпочтут сохранить мою голову в целости и сохранности, ибо в ней еще содержится немало интересного для них. И вот в одно прекрасное утро я бросаюсь на Макса с громким боевым кличем и наношу ему удар кулаком в живот. Но наша схватка еще толком не началась, как нас разнимает ворвавшийся в камеру охранник. С тех пор Макса я больше не видел.
Мои крестики говорят о том, что наступил февраль.
Моего рациона хватает только на поддержание жизни, но недостаточно, чтобы сопротивляться холоду - такому же беспредельно жестокому, как и многое другое в этой стране. После моего коллапса допросы прекратились, и я предоставлен самому себе в течение всех долгих холодных ночей и коротких холодных дней. Когда дует леденящий ветер, я рад, что нахожусь в четырех стенах. Через крохотное окно я вижу заснеженную тюремную территорию, по которой утром гонят на работу бригады заключенных: цепочки отверженных в истертых, драных одеждах. Вечером, спотыкаясь и скользя, они бредут назад.